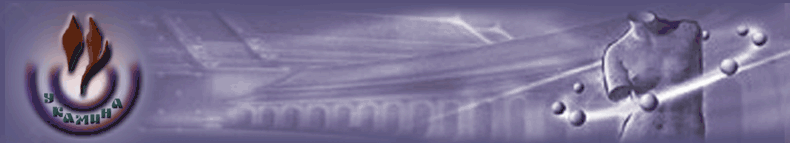
|
Дождь шел всегда, везде – то есть
три дня подряд в Эгере. Усеивал мелкими заклепками спящую летаргическим сном
обмелевшую, ставшую мумией речку, как пальцами по натянутым листам бумаги
стучал по тихо плывущим желтым листьям, по их рыжим бабушкам – прум, прум. И
мостик был совсем мокрый, и ежился, словно чугуну или бетону – не помню уже, из
чего он был сделан – тоже хотелось под зонтик. А медь на двух башенках слева
становилась темнее с каждым годом – листья желтеют, медь зеленеет, а белая
«Шкода» со спущенными задними колесами ржавеет, и ничего нового в дождь здесь
не происходит. Откуда-то слышна красивая и грустная, под стать дождю, мелодия –
что-то об отеле в Калифорнии. Так было и вчера, и позавчера…и не всю ли жизнь с
ее сотворения? Кто-то сидит у чуть приоткрытого старинного окна, всматривается
в сырую погоду, в бездонные ее глаза, и лишь время от времени уходит в глубь
квартиры, чтобы снова поставить ту же пластинку. И садится снова, и смотрит. И,
может быть, не видит ничего, потому что думает о своем, и набухший старый город
не значит для него ничего, и люди в этом городе ничего для него не значат. А
может быть, видит старика, идущего вдоль реки. Шарк-шарк, заложив руки за
спину, в сером берете, в старой бесцветной куртке. Он всегда гуляет в дождь без
зонтика - если, конечно, на дворе не ливень. Ну конечно, в ливень никто гулять
не будет, но если немного капает – чуть-чуть, и жить осталось чуть-чуть, и дома
никого нет, даже собаки или кошки, почему бы ни поговорить с дождем на равных,
не таясь от него, беззвучно шевеля губами? Он уже давно на пенсии. Принято
считать, что его давно уже ничего не интересует кроме содержания жира в кефире,
фикуса в углу комнаты и телесериалов. Ежемесячно он получает крохотную подачку
никогда не блиставшего государственного служащего, но ему хватает на продукты,
газеты, легкое красное вино по пятницам, и даже на концерты камерной музыки раз
в два месяца. А еще он ходит в протестантскую или еще какую-то – он сам точно
не знает – церковь. Не потому, что сильно верит в бога, а потому, что ведь надо
же куда-то ходить? А больше, как принято считать, старику ничего не надо. Его зовут Динер Лазло. Отец его
венгр, мать наполовину немка, наполовину чешка. Оба давно умерли. Дети уехали
из Эгера, когда им еще не было двадцати. Дочь теперь работает в крупном отеле
на Балатоне, выдает ключи и все такое прочее, а сын живет во Франции, чем-то
торгует, хочет иметь деньги и ничего не делать, и иногда это потомку Лазло
удается. Сам Динер всю жизнь был служащим – то на почте, то в страховой
компании, то еще где-то, о чем даже неинтересно вспоминать. Его рост – 178 см,
то есть он довольно высок для своего поколения, измученного войной, коммунизмом
и прочими несуразностями великого двадцатого века. Все в доме, где он живет, знают –
кто вообще хоть что-то знает, кто были его отец и мать, и то, что он воевал на
восточном фронте, а вернее, был туда отправлен, заболел под Ленинградом
воспалением легких, на пути в госпиталь был контужен, комиссован и не успел
никого убить. И что жена его, с которой он развелся двенадцать лет назад,
брюнетка, которая была когда-то по-венгерски сказочно красивой, работала в
книжной лавке и крутила роман с водителем междугороднего автобуса, красавцем
Петером – чернобровым, черноусым и глупым. Все знали, что она опускала шторы в
магазине всегда в одно и то же время, в перерыве между рейсами. Все знали, что
с четырех часов дня до пяти тридцати Мартичка и Петер занимались любовью, и
Петер имел ее, не снимая с нее платья, возбуждаясь лишь на ощупь, разложив
возлюбленную прямо на газетах и журналах, разбросанных по прилавку. А потом до
конца рабочего дня она была рассеяна до ужаса и подавала всегда не то, что
спрашивали покупатели. Однажды она забыла вернуть трусики на нужное место, и
они долго пролежали на стуле на виду у всех, а журналы на прилавке в тот вечер
были очень теплыми, почти горячими. И некоторые люди до сих пор хранили, как
реликвии, газеты и журналы, служившие любовным ложем – казалось, они еще пахли
вкусной белой попкой Мартички. Динер, говорят, обо всем знал и вроде бы даже
журил Мартичку за распутство – по-отечески, без злобы, и вел ее в спальню, а
приятелю своему как-то сказал даже, что ему жаль, что Петер никогда не видел
Мартичку совсем голой – много потерял, чертовски много! Никто не связывал
развод двух супругов уже в зрелом возрасте с давним романом, и правильно. Роман
легко прекратился сам собой с отъездом черноусого Петера из Эгера в
Будапештскую тюрьму, когда он после любовных утех с Мартичкой сбил на трассе
велосипедиста. И действительно, та связь совершенно не причем. И кто о нем
теперь помнит кроме одиноких стариков, ровесников Динера, у которых еще
хранятся памятные журналы? В общем, жизнь старика Динера Лазло,
теперь уже прошедшая, ничем значительным не отличалась от тысяч жизней других
горожан. И старость его была обыкновенна. И, когда он проходит вдоль реки,
никакая Янушка не говорит своему Стефану: -
Смотри, это не тот ли идет, кто придумал
волшебный кубик? А не тот ли это, кто снял фильм про
концерт «Королевы»? А не этот ли худой высокий старик вернулся вчера, как
писали в газетах, из полувековой эмиграции? Нет, она так не говорит и никогда не
скажет. Она просто чиркнет взглядом по унылой фигуре, бредущей вдоль узкой
полоски воды, и отвернется. На свете слишком много стариков, и с каждым годом
их становится все больше, и почти все они жалки и несимпатичны, даже если
держат хвост пистолетом. И никто… И никто во всем прекрасном городе не
знал, что старик писал стихи, а значит, был поэтом. Что он до сих пор пишет
стихи, а значит – поэт. Что стихи приходят в его уже совершенно седую голову
всегда, но особенно тогда, когда в Эгере идет снег – мокрый, чистый, крупный
февральский снег. А в дождь лучше всего работается над уже когда-то написанным.
Никто не знал, что во все времена года и в любую погоду он садится за стол
лицом к окну, на этот раз занавешенному дождем, надевает теплый свитер,
нацепляет очки в роговой оправе, чихает, откидывает в сторону тапочки,
пододвигает по привычке пепельницу, хотя давно не курит, проводит на бумаге
несколько пробных линий дешевой шариковой ручкой, зажмуривается на миг,
открывает глаза, чешет подбородок, облизывает тонкие бледные губы и начинает
писать. Старость и одиночество становятся для него блаженством. Только тронутая
вечной плесенью, неизвестной и непонятной американцам и японцам, такая
маленькая и такая глубокая Европа в лице покусанной временем крепости смотрит
на него и, быть может, помогает ему. А скорее всего, ему никто не помогает
кроме бога и, конечно, дьявола – он ведь тоже необходим. Динер начал писать перед войной,
когда влюбился в последнем классе школы в тонкую, как дым папирос «Данхилл»,
девочку, которая не обращала никакого внимания на него, нескладного долговязого
паренька с соседней улицы. С тез пор Лазло писал всегда, стеснялся этой
странности, и ему приходилось прятаться, таиться, выискивать время. Особенно
тяжело было в госпитале, где ему почти никогда не удавалось побыть одному, даже
ночью. Ему подолгу приходилось держать в голове целые поэмы. От тех стихов не
осталось и следа, а вот четверостишья, посвященные продавщице журналов после
войны, он хранит. Впрочем, Мартичке он их не читал – от поэзии она была далека,
а вышла замуж за Лазло, не обделенная вниманием мужчин, просто потому, что он
сделал ей предложение – а никому до сих пор это и в голову не приходило. А быть
с другими мужчинами, как она справедливо решила, ей все равно ничто не
помешает. Конечно, позже жена узнала о его пристрастии, но он и при ней не
писал, стыдился, неловко себя чувствовал. Он никогда не давал ей читать свои
стихи, а она никогда его об этом не просила. Стихам она никогда не придавала
никакого значения. Мартичка не считала мужа ни психом, ни неудачником. Просто
одни мужчины любят растить живот в пивной забегаловке, другие вечно ремонтируют
старый мотоцикл, третьи собирают консервные ножи, а случаются и такие, которые
в свободное время портят бумагу, вот и все. У каждого мужчины свой бзик –
считала Мартичка – и с этим ничего не поделаешь. Приятно, разумеется, когда
мужчина и занимается тем, что приносит доход, а что взять со стихов? Мартичка
знала, что настоящие писатели живут неплохо, ну а Лазло разве похож на
писателя? Что же теперь, удавиться, если ей достался обыкновенный мужчина с
обыкновенным бзиком? И Мартичка решила, что в петлю лезть нет никаких причин, а
вернее, ни о какой петле она, конечно, не думала. У нее была красивая шея – не
хуже всего остального. И даже от торговли, родов и приготовления ужинов она
могла получать удовольствие. Мартичке было наплевать на стихи мужа, как и на
все остальное на свете, что не вписывалось в ее понятия обычной, нормальной
жизни. Она только взяла на себя заботу прятать творения Динера, если он вдруг
случайно – очень редко – оставлял бумаги на письменном столе, спешно собираясь
куда-нибудь. Может быть, он в тайне желал, чтобы жена их почитала? Но она
только убирала стихи подальше в стол. Прятала от детей, чтобы они не подумали,
что с их папой не все в порядке. Лишние вопросы, восклицания, насмешки и
сочувствие были ни к чему. Кстати, в творчестве дети всегда мешали ему больше
всего. Он очень не хотел, чтобы дети хоть что-то знали о нем, как о «поэте».
Впрочем, его, как и Мартички, опасения были напрасны. Однажды дети нашли целую
паку его стихов, забрались на крепостную башню и из бойницы стали пускать вниз
бумажных голубей, для которых страницы поэмы послужили превосходным материалом.
А когда все страницы оказались таким образом внизу, на площади, дети тоже
спустились вниз и пошли в кино. А дворники за час с небольшим, сквозь зубы
ругаясь и качая головами, все убрали. Он сначала не заметил пропажи, но
дочке вдруг стало совестно вечером, и она спросила: «папа, тебе ведь не очень
были нужны эти бумаги?». «Какие бумаги?» - вздрогнул Динер. – «А которые лежали
в твоем столе, в синей папке. Мы из них голубей наделали. Пап, ведь это не
страшно, правда? Там было что-то написано, а потом зачеркнуто, и опять
написано. Мы с Яношем больше не будем…» «Нет, ничего страшного, идите спать» -
успокоился Лазло. Он не огорчился слишком сильно. Поэт не дожил бы до
преклонного возраста, если бы слишком сильно огорчался. Он ждал худшего или
надеялся в тайне, быть может, даже от
самого себя, что дети проявят интерес к его стихам. Но этого не
случилось. Теперь можно было писать открыто, а он все равно продолжал делать
это ночами на кухне. Странно, но он не успел за все эти годы испортить зрение –
очки начал носить только после семидесяти и то в основном потому, что в таком
возрасте носить очки положено, а то выглядишь так, будто всю жизнь книги в руки
не брал. А теперь ему совсем никто не мешал –
давным-давно. Он мог писать когда угодно и сколько угодно. Мог разбрасывать
стихи по всей квартире. Мог даже жечь в стареньком закопченном камине те из
них, которые ему не нравились. У него было правило: если стихи не нравятся
спустя год после их появления на свет, то их следует уничтожить. А если стихи
были еще старше, то он был к ним еще более беспощаден. Что это – стариковское
упрямство, рост мастерства, или он все же думал о том, какое наследие оставит
после себя? В последнее время он сжигал все больше, без сожаления и грусти,
оставляя самое с его точки зрения ценное. Даже угля для отопления в холодные
времена ему требовалось меньше – стихи хорошо горели и давали много тепла.
Поэтому старик старался проводить ревизию декабрьскими и январскими вечерами и,
таким образом, еще и экономил средства. - А эти – ничего, - удовлетворенно
кряхтел он каждый раз, собирая оставшиеся в тонкую папку. Им он благодушно
оставлял жизнь и позволял лежать рядом с новыми. Пусть им всем, по существу,
было суждено умереть вместе с ним, но это были его шедевры, и он любил их. Когда-то Динер Лазло верил в то, что
стихи сделают его будущее, и очень боялся возможности их смерти, дрожал над
каждым стихотворением, вел архив и так далее. То, что стихи могут уйти вместе с
ним никем нечитанные, казалось ему невыносимым, несмотря на то, что он никогда
не носился с ними по редакциям. Тогда ему до муки хотелось быть знаменитым, как
и всем, наверно, людям на свете. Динер представлял себя в ореоле славы, и ему
казалось, что слава должна была идти ему, хорошо сидеть на нем, как по фигуре
сшитая вещь. Деньги его не сильно волновали. Он уже готовил в уме речь
нобелевского лауреата – первого в Венгрии поэта, обласканного самым высоким
признанием! И ведь у него все было впереди! Он думал еще, и по молодости не без
оснований, что прожитый день – пустяк, а важно только то, что произойдет после.
Придумывал себя в будущем и нравился сам себе. Точно знал, что скажет
корреспондентам влиятельных газет Америки, России. Ему этого хотелось, он был
бы счастлив этим, а неужели кому-то было надо, чтобы он был несчастен! Как
всякому нормальному человеку ему хотелось, чтобы молодые красивые женщины на
улицах узнавали его, шептались, строили ему глазки. Он не верил, что
когда-нибудь умрет, а если мысль о неизбежности смерти посещала его, он с
негодованием гнал ее прочь. Хотя иногда и эта мысль была ему приятна – ведь
после смерти о нем будут вспоминать чаще, на его могиле застрелятся несколько
первых будапештских красавиц, и такая молодая вдова Мартичка будет приносить к
скромному камню черные и красные розы, скорбно молча в окружении бледных
последователей и всегда злорадствующих критиков… Он лишь однажды за всю свою долгую
жизнь показал свои стихи человеку – своему другу, студенту столичного университета,
будущему известному экономисту. Друг приехал в Эгер на каникулы и навестил
Динера. Будущий лауреат Нобеля подарил ему тетрадку свежих стихов. Они выпили,
поговорили ни о чем, друг посидел еще немного и ушел. Всю ночь Динер не спал. Он крутился,
вставал, зажигал свет, бегал на кухню и пил сырую воду, курил, гасил свет,
бросался лицом в подушку и так продолжалось до утра. Он старался убедить себя,
что не имеет значения, как отнесется к его творениям друг. «Если друг будет
восхищен, наградит меня лестными эпитетами, -
надо вести себя скромно, не показывать лишнего упоения, - Думал Лазло. –
В конце концов, похвалы вредны, а мои стихи, положа руку на сердце, еще
поверхностны, наивны и путаны, и я это прекрасно знаю. Но, святая Мария, отчего
же я так волнуюсь? – думал Динер. – Ведь если друг не поймет моих стихов,
значит он не друг мне, стало быть, ему не интересна моя душа, он не хочет или
неспособен проникнуть в нее, а дойти до каждого, пробить стену, воздвигнутую на
пути волн сердца, не дано в полной мере даже гениям». Если бы друг сказал, что стихи ему
понравились, жизнь Динера Лазло, возможно, стала бы совсем другой. Преодоление
чужого неверия – великий стимул, но обязательно должна быть первая женщина,
которая улыбнется и скажет: «ну, хватит стоять, как истукан, расстегни-ка
быстрее вот здесь, я хочу тебя», должен быть первый начальник или просто
коллега, который похлопает по плечу и воскликнет: «а ты, парень, справляешься!»
И в жизни пишущего должен быть первый благосклонный читатель. Который словом, взглядом,
пожатием руки даст понять, что ты не напрасно гнул спину над столом, пока твои
сверстники делали карьеру. Но друг даже не вспомнил о стихах,
когда зашел на следующий день попрощаться. Сказал что-то малозначащее,
рассказал анекдот, попросил папиросу и покинул Динера с его смятением. Может
быть, он просто не открывал тетрадь? Или потерял ее по дороге, потому что
накануне изрядно выпил? То был единственный человек на
свете, которого Динер тогда любил, не считая невесты Мартички. И потому он не
спал еще одну ночь. Он твердил себе: «Ну почему друг должен вспоминать о моих
стихах? Он давно не был в родном городе, у него здесь мать, отец, сестра,
любимая девушка, старенький «Ситроен», и ему есть о чем думать и мечтать. Я
напишу ему письмо в Будапешт, и он непременно ответит, что страшно занят, успел
прочитать всего несколько стихотворений, и они ему понравились». Однако под страхом смерти Динер не
напомнил бы другу о той тетрадке. Потому что страх быть раздавленным
снисходительной усмешкой или осторожным намеком на вздорность его чаяний был
сильнее всего на свете. Еще теплилась надежда. Надежда на то, что он, как поэт,
кому-то нужен. Что он вообще – поэт. Чего бы он ни услышал, он не бросил бы
писать, потому что из по-настоящему пишущих бросил писать лишь Артур Рембо. Но
этот француз был гением, и в этом смысле тоже. Однако что-то подсказывало Динеру,
что стихи оставили друга равнодушным, если не сказать больше. А может, и куда
больше. Друг был жестким человеком, не терпел людей, которые просят у него снисхождения,
не любил бездарей и глупцов, захлебывающихся как от сомнений, так и от
самомнения. Он сам буквально рвал на себе волосы – делал все для того, чтобы
его никто и никогда не считал бездарным. Он не был мечтателем, какими
обыкновенно случаются поэты, он был человеком реальных достижений, побед в
жестоком и равнодушном мире. Он, тот, с которым Динер выпил первую рюмку и
впервые пощупал девчонку, он, лет до двадцати двух хранивший абсолютно детское
выражение лица, он, которого Динер рад был видеть в любое время дня и ночи,
уцепился за жизнь зубами, не почувствовав, как стремительно осыпались, словно
цветы осенью, его глаза. У Динера никогда не было ни таких светлых глаз, ни
таких крепких зубов. А друг, чем старше становился, все больше презирал слепых
и шамкающих. Он ушел, ушел навсегда. Еще до краха коммунизма он уехал в ФРГ и
заработал много денег. И вот уже сорок с лишним лет его связывали с Динером
лишь воспоминания Динера. Хотя, говорят, он бывает в Эгере, навещает семью
сестры, привозит подарки. Но путь к дому Динера он забыл. Ну и бог с ним –
Лазло на него не сердился. Ведь он любил друга – того, прежнего, с глазами Пола
Маккартни. Его стихи и воспоминания о друге – вот две оставшиеся ему страницы
любви. Конечно, когда-то он безумно любил Мартичку, но вечная любовь к женщине
– досужая выдумка романистов. Особенно если женщина к старости становится
сварливой и обиженной на весь свет. Мартичка была счастлива, когда была молода,
пока страсть мужчин поддерживала в ней огонь. Потом она стала просто не нужной
никому, в том числе детям, в том числе себе самой, в том числе Динеру, и их
совместная жизнь стала нелепой. И Мартичка, собрав свои сбережения, с
равнодушного согласия Динера перебралась в комнату на окраине города. Она еще
жива и Динер иногда встречается с ней на улице, но они всегда проходят мимо
друг друга и никогда не разговаривают. Лишь однажды, когда Лазло просматривал
старые стихи и наткнулся на строки, посвященные его бывшей возлюбленной, матери
его детей, что-то екнуло в старом сердце поэта. Он выскочил на улицу, купил ее
любимые розовые гвоздики на все, что
оставалось от пенсии, и послал их ей с курьером. Она ничем не ответила. Динер Лазло легко научился жить без
людей рядом, довольствуясь нехитрыми разговорами о погоде и ценах с соседями в лавках
и церкви. Ведь устоявшиеся привычки трудно, но можно изменить – никто еще не
умер от необходимости изменить привычки. Вообще-то, особого смысла в
существовании Динера на Земле больше не было. Но тот, кто распоряжается
неизбежным освобождением мест, видимо, думал иначе… И старик не умер. Не умер от
одиночества, бедности, от того, что ни разу в жизни ему не пришлось надеть фрак
и побывать в Стокгольме. Потому что однажды пришли мудрость и осознание того,
что нет причины слишком сильно огорчаться. Стихи продолжали течь из под шарика
ручки, из под сердца – что еще надо? И зря говорят, что старика ничего не
волнует. Волнует, только иначе, чем в молодости. Наступает в жизни момент,
когда хочется просто жить, с упоением продлевая оставшиеся годы, месяцы, дни,
часы и не думать о том, что могло бы быть счастье, да вот его все нет, все не
случается. Уже не случится – значит, хватит ждать его напрасно – можно
успокоиться. И только тогда, когда человек
осознает, что ему больше нечего ждать, он начинает жить по-настоящему. А поэт
становится настоящим поэтом. Ему не суждено было надеть фрак, но почему Динер
Лазло на восьмом десятке жизни сидит напротив окна, за которым серо и уныло,
осень и холод – и улыбается? Почему он идет на кухню и заваривает чай в облупившемся
чайничке, а его движения уверенны и спокойны? Ведь жизнь его – пустота, он
бесплодный мечтатель, неудачник, старый бедняк, вечный грошовый служащий,
бывший рогоносец, а ныне брошенный женой и детьми? Почему он счастливее тех
самых Янушки и Стефана, которые молоды и красивы, а мечтают зимой, весной,
летом и осенью, чтобы скорей кончилось и первое, и второе, и третье, и
четвертое, потому что им всегда скучно и неинтересно то, что они имеют? Почему
их тянет в Будапешт, в Париж, Берлин и куда угодно, а Динер Лазло только
мечтает о том, чтобы пожить еще немного и тихо умереть здесь, в квартирке с
фикусом, и счастлив этим? Неужели только потому, что жизнь его прожита до
конца, уже ничего не осталось, а последние дни – единственное доставшееся в
наследство от фантазий молодости богатство? Может быть, может быть. А он уже
выпил чай и откинулся в кресле с газетой. И снова улыбается – будто не
понимает, что для него все кончено. Старик забыл убрать в стол только что
написанное им стихотворение – теперь это совсем ни к чему. Пускай оно полежит,
а мы почитаем. Сейчас он включит телевизор и будет слушать сводку погоды, а
дождь усилился и стал шуметь. Динер по-стариковски глуховат и не услышит, как
мы войдем. Только не надо ничего говорить старику – теперь ему абсолютно все
равно, что мы скажем. Ему суждено стать действительно бессмертным поэтом,
потому что мир никогда не узнает о его смерти. Так что просто войдем и
почитаем. А лет через пять выпьем за него кружечку пива. Серебряный принц на подсвечнике тусклом, Дорога из рая и ада - одна. Заброшенный дом. Пыльно, звонко и пусто. На столике ждёт нас рюмка вина. Заходит любой. Выпивает до дна. Здесь женщины нет. И она не нужна. Здесь только Венеры прямая спина Загаром, как медью, блестит у окна. Но страсти здесь нет. И она не нужна. Три комнаты спелым залиты закатом. В двух лошади спали. В другой Сатана. Здесь слух ублажается моря накатом. А больше ни звука. Одна тишина. И нечему нас оторвать от сна. Здесь музыки нет. И она не нужна. Здесь только в полыни и мяте страна. Здесь искоса смотрит на строчки луна. Идеи в них нет. И она не нужна. Садишься напротив камина. Перстами Касаешься лба.
Будто входит она В соломенной шляпе, с живыми цветами. И это - простой ностальгии волна, Когда оживает портретом стена. А грусти здесь нет. И она не нужна. Луна не уходит. Как капелька сна Висит она. Лопнула утра струна. А смерти здесь нет. И она не нужна. 1990 – редакция 1999 |
||||||||||||||||||||||||
|
Скачать
Очень просим Вас высказать свое мнение о данной работе, или, по меньшей мере, выставить свою оценку! Оценить: Закрыть |