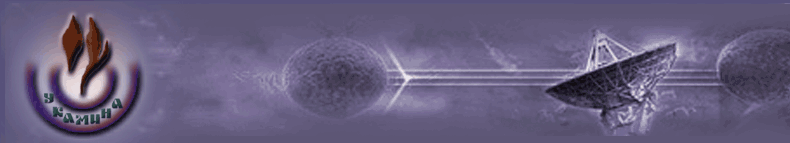
|
www.mp3-koran.com تلاوات خاشعة Good audio books in Arabic
О Лидии Федотовне, ее муже, дачных цветочках, происхождении слова «лоллард» и виде из нашего окна, а также о технике разговора с клиентами и кипячения воды в образцовом исполнении Лидии Федотовны. Вот, сказал мне Аполлон, Я даю тебе ту лиру, Коей нежный, звучный тон Может быть приятен миру. Дверь снова пискнула и впустила в комнату «легкую на помине» Лидию Федотовну – даму внешне солидную и даже респектабельную, но по мелькавшим порой в ее глазах «чертикам» легко было понять, что и она «себе на уме», и не стоит верить ее внешности больше, чем внешности любой опытной женщины, т.е. ровно настолько, чтобы легко поддерживать с ней «светскую болтовню», но ни в коем случае не раскрываться – наивность такого поведения наказывается быстро и болезненно… Она повесила свое «сильно укороченное» морозом пальто с воротником из хорошей норки (или чернобурки? – совсем я ничего в мехах не понимаю…) на крючок стоящей перед дверью вешалки и направилась к своему рабочему столу. - Ой, мальчики! Ну, прямо еле дошла! А мой Митюня ещё мне утром и говорит: «Отдохнула бы, мать!»… А ещё поезд в тоннеле остановился и минут десять стоял… И ведь ничего по радио не говорили! Я, конечно, понимаю – у него, у поезда, может, и радио не работает, там уж всё разваливается от старости… Конечно, роздал этот пьяница Кельцин всё «своим да нашим», а теперь – с кого спросишь? Раньше хоть пожаловаться можно было в милицию, а теперь кругом одни бандюки и воры! Я не понял, почему при остановке поезда метро нужно жаловаться в милицию, зачем бандюкам и ворам гнилая проводка вагонной связи, и при чем тут президент Кельцин, но спорить не стал – знаю ведь, что после того, как её Митюня, простой электрик в хозяйственной службе Верховного Совета при Хамбулатове, просидел под обстрелом в подвале Белого Дома почти сутки и выбрался оттуда с не самыми лучшими воспоминаниями о «культуре речи и бытового поведения» омоновцев, «зачищавших» эти подвалы после штурма, Лидия Федотовна решила для себя, что во всем виноват пьяница (но, по недоразумению, и Президент!) Кельцин и команда его «дерьмократов в розовых штанишках». - Ну, да ладно! Что о них говорить!.. У них - свои розарии на дачах, а у нас – своя картошка в огороде… А, кстати, как тут наши цветочки поживают? Лидия Федотовна ревниво следила за какими-то цветами, стоявшими на наших подоконниках, и поливала их по утрам перед началом рабочего дня. Она внимательно вгляделась в какую-то почку на толстом стволе, и погладила темно-фиолетовые глянцевые листья фикуса, а потом сказала мечтательно: - Вот настанет лето!... У меня на даче и розы, и маргаритки, и цинии… Её мечты прервал язвительный Илья: - Как Вы сказали? Циники? Это точно – любят циники срывать цветочки и у Розы, и у Маргариты… - Да ну вас! – рассердилась Лидия Федотовна. Вечно у вас, Илья Стефанович, одно и то же на уме!.. Не циники я сказала, а цинии! И вообще, хватит прохлаждаться, работать надо – сегодня ведь зарплата… Лидия Федотовна села за свой стол в углу комнаты, у окна, на кресло, которое было отрегулировано по ее росту еще в момент его доставки, но она каждый раз с утра примеривалась и садилась с опаской – не подменил ли его этот шутник Илья, и не крутил ли он регулировку? Сегодня все было в порядке. А Илья Стефанович, который вечно искал гармонию дурашливости и глубины и почти никогда не находивший ее, впадая в каждую из крайностей с периодичностью маятника, рассудительно произнес: - Э, нет, Лидия Федотовна, не скажите! Сегодня у нас с вами на уме одно и тоже – сколько лысорозовых лоллардов будет в конвертике? - Не в «конвертике», а в «конвертиках»,- выпуская коготки, царапнула его Лидия Федотовна. Но, не желая «обострять», она примирительно и смиренно улыбнулась. Однако, всё-таки не удержалась и добавила: - Разные у нас с вами конвертики, Илья Стефанович, разные… Смотрите, не перепутайте – пожалеете! - А, кстати, вы знаете, откуда пошло это выражение?,- обратился Илья уже ко мне, оставив в покое Лидию Федотовну, поскольку и не ожидал получить от нее ответа на свой вопрос. Она тоже сочла разговор исчерпанным, достала свою кружку (держала ее в столе отдельно от других) и пошла за водой, даже не проверив, есть ли она в «общественном чайнике». Чайник ее не интересовал «принципиально», потому что «эта грязнуля Елена Петровна там давно лягушек развела». - Не знаю, Илья Стефанович, - честно признался я. Довольный тем, что после поражения с Хоружим «уел» меня по «интеллектуальному вопросу», Илья Стефанович рассудительно изложил почерпнутые им откуда-то действительно весьма любопытные сведения. Оказывается, ещё у какого-то то ли английского, то ли ирландского классика начала XVII века в полузабытом ныне, а тогда, как сказали бы сегодня, «культовом» в Америке романе, была такая малопонятная фраза: «С задумчивой бороды на язвительный череп переходил его взгляд, дабы напомнить, дабы по-доброму упрекнуть, переместившись затем к тыкве лысорозового лолларда, подозреваемого невинно». И вот переселенцы, которые, естественно, в культуре были полностью зависимы от метрополии, но всегда хотели как-то выделиться из нее, именно этого «лысорозового» и увидели в своем тогдашнем президенте, поскольку в романе об этом лолларде было сказано: «У него было на добрую деньгу ума». Так попал на готовившиеся первые банкноты Демократических Штатов Америки «лысорозовый» Президент и непонятный, но звучный «лоллард» украсил вид новой валюты молодой страны. История мне понравилась, и я сказал, что не откажусь изучить лысину как можно подробнее на как можно большем числе примеров, т.е. экземпляров. Мы немножко поспорили с Ильей – о каком из америкосских Президентов здесь идет речь – действительно лысом Уошингтоне, прикрывающем на однололлардовой купюре свою лысину париком, или о Франкеле со 100-лоллардовой банкноты, наоборот, выпячивающим начинающуюся лысину? Сошлись на втором варианте и пожелали друг другу вечером изучить как можно больше портретов этого физика. Вернувшись с полной кружкой воды, Лидия Федотовна поискала глазами какую-нибудь бумажку, чтобы подстелить ее на подоконник, где она кипятила воду для утреннего чая. На глаза ей попалась та самая «портянка» из Даргомыжска, которую сунул мне Илья. Я ее бросил на тумбочку, где у нас лежат «ненужные бумаги» для черновиков. Лидия Федотовна положила ее на подоконник, поставила на нее кружку, и включила кипятильник. Предосторожность оказалась не лишней – выплеснувшаяся при погружении кипятильника вода потекла по факсовой бумаге, размывая ее текст – «Извещение о долговременном перерыве в сортировке некоторых категорий грузов» и расположенную под ним картинку с изображением хопра-вагона и железнодорожной платформы, в которую и уперлась вытекшая струйка, не добравшись до текста следовавших сразу после картинки «Правил перевозки грузов по железным дорогам РФ». Равнодушно скользнув взглядом по этой лужице, Лидия Федотовна стала рассматривать величественный индустриальный пейзаж за окном, включавший в себя широкую панораму заснеженной набережной Моквы-реки с неброскими, но графически выразительными силуэтами небольших лип, посаженных вдоль солидного, но не помпезного чугунного ограждения темно-красной воды, просвечивавшей сквозь нетолстый лед. Она заметила на льду множество ярких фигурок рыбаков в голубых комбинезонах, по оранжевому цвету лиц которых легко было понять – они не чувствовали никакого холода. Вероятно, столь любезная ее сердцу совковая милиция, во время оно должна была бы похватать их всех без разбора за явное, легко обнаруживаемое и на глаз, по цвету, без всяких там «химических трубочек», нарушение запрета на употребление крепких спиртных напитков в общественных местах и за «самовольный лов с целью обогащения». Но сегодняшняя милиция спокойно ехала вдоль цепочки этих нарушителей по набережной на полученном от загнивающего Запада «по линии технического сотрудничества» то ли «Морде», то ли «Мерсебесе» (плохо я разбираюсь в марках иноземных автомобилей, наводнивших наши улицы). И никак она не реагировала ни на это вопиющее нарушение норм капиталистической морали (рыба-то действительно и жирела и мутировала на отходах муниципального хозяйства, тайно сбрасываемых в реку), ни на попрание «Правил безопасного поведения на водах». А ведь лед был настолько тонок, что почти не скрывал рисунка водоворотов, крутившихся в виде маслянисто-красных спиралей нечистой воды, нагретой за счет тех же тайных сбросов до нескольких градусов Кельция. (Выше нуля, разумеется). Решетка ограждения ровной линией тянулась от поворота русла под железнодорожный мост до красавца-метромоста (построенного, кстати, женщиной-архитектором «посуху» - русло реки пустили под мост только после завершения его строительства). Прерывалась она только в том месте, где в нее врезался какой-то молодой лихач, мчавшийся ночью с перпендикулярной улицы и бывший в таком алкогольном градусе, что не заметил «прямо по курсу» даже светящейся ленты Моквы-реки. На противоположном берегу, просвечивая сквозь морозную дымку, красовались относительно новые (что там десять лет для рассейского завода!) ринового цвета корпуса сборочных цехов автогиганта и живописные, высоченные, нагретые, как это обыкновенно и бывает зимой, до красного свечения трубы, из которых столбом в чистое фиолетовое небо поднимался ярко-красный пар тамошней ТЭЦ. Все это Лидия Федотовна наблюдала, ожидая, пока опущенный в кружку кипятильник не нагреет воду до ярко-красного цвета и она не закипит, выбрасывая лопающиеся пузыри горячего оранжевого пара. В этот момент кипятильник следовало отключить. Для этого снова нужно было лезть под стол, потому что «этот несносный мальчишка» – «Бурый» – никак не купит («за общественный счет», разумеется) нормального удлинителя для ее кипятильника и не подключит его к розетке. Сергей Иванович («Бурый», как называли мы его между собой) был «восходящей звездой» нашей фирмы, раньше он занимался вместе с основной работой и мелкими хозяйственными делами, а теперь, «набравшись опыта», переходил на «крупняк» и хозяйственную мелочевку постепенно сбрасывал с себя. Но Лидия Федотовна ещё не до конца осознала его новое положение и по старой памяти теребила по пустякам. А «Бурым» прозвал его шеф за хваткость в делах и странный цвет купленного им первого автомобиля. Отсутствие же удлинителя справедливо расценивалось Лидией Федотовной как небрежение к ее заслугам перед фирмой и неуважение к возрасту. (Хотя последнее соображение по понятным причинам и не озвучивалось никогда, но всегда присутствовало в ее внутреннем анализе расклада сил и влияний, на основании которого она и вела себя). Заварив чай, Лидия Федотовна начала листать свои записки в старой, потрепанной тетради, ценность оперативной информации в которой была столь велика, что берегла она ее «как зеницу ока» и спасала в первую очередь. Однажды, например, возникла угроза «наезда налоговиков». Это был тот редкий случай, когда для фирмы возникла неожиданная внешняя угроза. Обычно «волчий нюх» шефа чувствовал даже тень опасности задолго до того, как она появлялась на горизонте и он успевал принять эффективные меры для того, чтобы рассеять эту тень. О многом подобном мы даже и не догадывались. А потому легкомысленно относили к чудачествам шефа его требования к уборке письменных столов, просмотру своих личных рабочих тетрадей, пресечению «лишних» телефонных разговоров и т.п. Не приведи Господь, если он вдруг увидит, что ты выбросил в урну, не разорвав в мелкие клочки какой-то листок, на котором были записи, касающиеся технико-экономических обоснований наших схем или – что вообще грозило «тройным расстрелом на месте»! – расчетов каких-то кэшей. Так вот, тогда, когда редкая тень все-таки накрыла «наше гнездо», шеф приказал срочно уничтожить все старые бумаги – черновики договоров, письма с заводов, рабочие ТЭО по разным схемам сделок. И Лидия Федотовна вместе со всеми «рвала и метала» старые папки и документы, но… предварительно спрятав в сумочку эту заветную тетрадь! И, уходя в отпуск (внук, дачные проблемы…), с большой неохотой оставляла этот потрепанный раритет своей временной преемнице – молоденькой, но явно «перспективной» девочке по имени Анечка, недавно присмотренной шефом с подачи Ильи. Помнится, что пришла к нам Анечка не одна, а с подругой Оленькой. Но после первого же производственного совещания Оля в ужасе убежала, а Анечка пришла снова. И теперь время от времени шеф приглашает ее «на подмену» очередной «кадровой отпускнице». Но так все и не решится предложить ей «руку и сердце» постоянного места. А Анечка ждет этого. И, думается, не напрасно – дождется. Такие лисоньки как Анечка просто так хвостом не крутят… Через две минуты сосредоточенного листания тетрадки, в руках у Лидии Федотовны уже была телефонная трубка, и она проникновенно кого-то убеждала («нежный, звучный тон»): - Да что вы! Это самая лучшая добавка! И октан поднимает и не густеет на морозе!.. Да вот наши представители к вам приедут, и всё разъяснят… Конечно, взаимовыгодно… И регулярно… И с руководством побеседуют… И с вами лично!.. Конечно, лично!.. Вот приедут и всё разъяснят… Когда позвонить? Через пару недель? И сколько возьмете? Ах, только бензовоз… И уже более холодно, с оттенком брезгливой усталости от разговора с мелким, но претенциозным клиентом, добавила: - А, может быть, вы к нам подъедете? И, выслушав какую-то довольно длинную тираду, совсем равнодушно завершила разговор: - Ну, хорошо, договорились… Трубка легла на корпус аппарата и Лидия Федотовна вздохнула, и произнесла, ни к кому особенно не обращаясь, а так, чтобы выговориться: - Опять только через две недели… Да понятно, что сейчас зима и бензин их паленый никто не берет… Вот были б мы на границе с Закраиной,- вдруг мечтательно произнесла она,- да стоял бы сейчас март, а даже лучше – апрель, когда у них начинается «битва за урожай»… Только бы свистели бензовозы по просёлкам вокруг этих их «погранпостов» опереточных! А так… В карман, конечно, каждому охота положить, но за что им платить?! И берут-то какой-то один паршивый бензовоз на 5 тонн, а ещё кочевряжатся – «Посмотрим, как пойдет… Пусть представители привезут пробу литров в двадцать… Поговорим лично… Для одного процента с каждой тонны уж пустой карман в пиджачишке отыщем…». А что тут может быть «личного» с пяти-то тонн?! Одних командировочных сколько уйдет (это она «о фирме заботится», надеется, что именно сейчас микрофон «общей связи» на прослушку переключен). Да что говорить, воры и хапуги везде… И закончила своей любимой присказкой: - Уж если Президент у нас такой, то что с людей спрашивать… И она снова зашелестела тетрадными страницами с адресами и телефонами известных ей нефтебаз, и снова трубка оказалась в ее руках, и опять голос наполнился медоточивой фальшивостью, которую она считает необходимым атрибутом «приличной» деловой беседы и почему-то столь легко принимаемой ее многочисленными невидимыми собеседниками именно за эталон: - Я вам звонила 13 декабря… Вы обещали… Ну, конечно, и личная встреча! Сколько?... Сначала 25 тонн на пробу?! А, может, сразу цистерночку, хоть бы и маленькую, тонн на 40 – 50? Конечно, приедут! И все привезут!.. И разъяснят!.. Ах, через десять дней… Хорошо, спасибо, до свидания… О коварстве зеленой коробочки, появлении Елены Петровны, «тройном диалоге» открытым текстом, дизайне нашей курительной площадки, а также о моих муках служебного творчества. Возвышенная мысль достойной хочет брони Богиня строгая – ей нужен пьедестал, И храм, и жертвенник, и лира, и кимвал, И песни сладкие, и волны благовоний… Стоящая на столе зеленая коробочка «селекторной связи с кабинетом» зашелестела, затрещала, и из неё раздался голос шефа: - А где у нас Елена Никоновна? Я инстинктивно дернулся, но быстро успел сообразить, что это относится не ко мне (никак не могу привыкнуть, что стоящая у меня на столе коробочка – это только элемент громкой связи «для всех», и по большей части выбрасываемые ею слова ко мне лично отношения не имеют и никакой реакции от меня не требуется). Дернулась и Елена Петровна, минуту назад вбежавшая в комнату столь поспешно, что даже не закрыла входную дверь. Окна, естественно, были закрыты плотно, но Лидия Федотовна, не отрывая от уха телефонную трубку, в которую летели ее дежурные слова: «Обязательно приедут… И лично…» все равно поежилась и осуждающе посмотрела на Елену Петровну – мол, сквозняк же… Но Елена Петровна не обратила на это ровно никакого внимания и успела за эту минуту и сбросить с плеч изящную дубленку, тоже, естественно, укороченную морозом по самую… хм… ту часть фигуры, о названии которой не принято говорить вслух в приличном обществе, и подкрасить губы помадой цвета Coral panache перед висящим около вешалки зеркалом («ей нужен пьедестал…»), и даже виновато-приветливо улыбнуться всем присутствовавшим, как бы говоря – «Вот, блин, опять опоздала! Но ведь совсем чуть-чуть, и все из-за этого бестолочи, который опять не сделал работу над ошибками, а мне пытался наврать, что потерял тетрадку!». Тут до них дошло, что шеф задал по селектору вопрос, и обе – и уже прихорошившаяся Елена Петровна, и Лидия Федотовна, с трудом оторвавшаяся от телефона и всё с той же немой укоризной смотревшая на суету Елены Петровны, закричали наперебой в покрытые пластмассовой решёткой отверстия точно таких же, как на моем столе, зеленых пластмассовых коробочек, причем каждая стараясь добавить что-то новое к информации, сообщенной «предыдущим оратором». - А её нету!- первой успела отреагировать Елена Петровна. - Вы же её, Василь Василич, в банк вчера на сегодняшнее утро отправили! – веско добавила Лидия Федотовна. - Она часам к 12 будет! – снова напомнила о себе Елена Петровна. - День-то сегодня особый, - лукаво намекнула на предстоявшую раздачу конвертов Лидия Федотовна, но тут же спохватилась, испугавшись смелости своего намека. Шеф любил темнить и тянуть с зарплатой «до последнего», но действительно ни разу не нарушил им самим установленной е ж е м е с я ч н о й периодичности воздаяний, иногда даже, когда фортуна и впрямь нам благоприятствовала чрезвычайно, устраивал «праздничные дни» и дважды и даже трижды в месяц, и ни разу не допустивший «абсолютно голого» календарного месяца, так что дату этого «последнего» дня, до которого он будет тянуть, грозя «в этом месяце остаться голяком при таком вашем усердии», все знали, по крайней мере, за неделю до волнующего события, но считалась она большим секретом шефа и Елены Никоновны. И Лидия Федотовна, стараясь, чтобы Василий Васильевич не заметил испуга в ее голосе, быстро, почти поспешно добавила: - Она ведь баланс квартальный повезла… - Понял, спасибо,- коротко сказала коробочка как будто не понявшим оплошности Лидии Федотовны голосом шефа, затрещала и умолкла… Я хорошо осознавал, что мое главное дело сегодня – разговор с Амгарском. И времени у меня немного – ещё через час-полтора там окончится рабочий день. Но что-то удерживало меня от того, чтобы сейчас же снять трубку и набрать номер их технического отдела. Для того чтобы собраться с мыслями, я встал из-за стола и, демонстративно пощелкав зажигалкой (теперь «если что» все будут знать, где меня искать), вышел в коридор, захлопнув, наконец, к удовольствию Лидии Федотовны, дверь, и пошел в курилку мимо симпатичного вахлака-охранника, отдающего весь свой досуг рыбной ловле. Он в этот момент смотрел какой-то сериал и, отметив меня краем глаза, продолжил смотреть тягомотную «Санта-Барбару». Через пять шагов я оказался на лестничной площадке, где была расположена общественная курилка. Курилка была оборудована в полном соответствии с экономическим положением страны и требованиями современного дизайна. На ее голом кафельном полу какого-то грязно-бурого цвета стояла зеленая железная урна (именно такого цвета, как и все обычное «противопожарное оборудование» - стандартные огнетушители, ведра и лопаты на пожарных щитах и даже ярко-зеленые пожарные машины). Здесь же располагалось тоже зеленое ободранное кресло, которое мы выставили «для общественного пользования» по причине нашей с Мейтесом лени – именно на нас упала задача ликвидации этого кресла, когда Бурый привез в офис новую мебель, а тащить эту ободранную рухлядь на помойку показалось нам тогда с Иосифом Самуиловичем делом слишком хлопотным. Так мы проявили заботу о курильщиках и избавили себя от возни с выносом кресла через грузовой лифт. И завершал картину приклеенный прямо на штукатурку полуободранный плакат, на котором была изображена папироса со струйкой ядовито-зеленого дыма в зеленом же круге, перечеркнутая жирной полосой, и с выдранной посередине надписью «Курение строго ……но!». Это оставшееся окончание оборванного слова «запрещено», особенно умиляло. Дескать, нельзя, конечно, но… если уж очень хочется!.. Я уселся в пустовавшее в этот момент кресло, пропахшее вонючим сигаретным дымом, и начал раскуривать свою трубку. Занятие это, как известно, неспешное, суеты не любящее и располагающее к размышлениям. Но самым главным его притягательным элементом именно сейчас было для меня то, что оно оттягивало неизбежный и столь нежеланный для меня момент снятия телефонной трубки. Было в этом нечто фетишистское, я как бы говорил самому себе: «Что, трубка? Пожалуйста, я возьму трубку!». Но вместо телефонной у меня в руках оказывалась курительная… Я прочистил итальянскую трубку, подаренную мне шефом после его поездки на Мадейру, набил её любимой «Черри амброзией», щелкнул зажигалкой, подарившей живой язычок синатового при основании и переходящего в яркий фиолетовый, почти как майский одуванчик на солнечном припеке, пламени, и, пыхнув пару раз «для розжига», с наслаждением затянулся… Теперь я мог спокойно подумать о причине своей «телефонной фобии». Что же ставило у меня внутри тот барьер, который не мог преодолеть рассудок, явно командовавший рукам снять трубку и набрать код и шестизначный номер? Через пару затяжек я осознал, что именно заставляло подсознание отдавать рукам саботирующие рассудочное решение команды и заставляло их путать белую пластмассу телефона с благородным бриаром итальянского подарка шефа… Это была боязнь услышать в трубке очередное холодное и раздраженное: «Нет, нам ничего от вас не нужно, у нас все в порядке…» с очевидным подтекстом: «Надоели вы хуже горькой редьки… «Благодетели» задрипанные… А па-а-шли бы вы все на хер со своей «помощью», не дождетесь! У нас технологи не лохи, справимся и без вашей дряни…» И вот этот предполагаемый мною подтекст, это причисление к стае стервятников, кружащих вокруг ослабевшего вдруг зверя, было не просто неприятным, а почти физиологически тошнотворным... Столько лет в бизнесе, а всё не могу себя сломать! Все хочется быть «честным» и «достойным». А в бизнесе честность состоит не в выставлении на всеобщее обозрение дыр на рукавах пиджака, образовавшихся от сидения в позе роденовского мыслителя, и достоинство измеряется не числом мучающих тебя интеллигентских комплексов! В реальном бизнесе твое достоинство измеряется реальным количеством проданного тобой товара (неважно – презервативов, синхрофазотронов или монографий на мировоззренческие темы) и толщиной полученного после этого конверта. И единственное отличие «цивилизованного западного» от «посконно-домотканного рассейского» бизнеса заключается в том, что «у них» вместо конвертов используются пластиковые карточки. Но, согласимся, это все-таки различие техническое, хотя и весьма существенное… Эта мысль оказалась, как я понял потом, каким-то сигналом или «информационным катализатором», вызвавшим во вселенских связях всего со всем какую-то перегруппировку, какой-то резонанс, поскольку зеленый ящик на моем столе защелкал, захрипел и произнес: - Игорь Петрович, зайдите! Я, разумеется, не услышал этого, поскольку технический прогресс в нашей фирме ещё не дошел до таких высот, чтобы радиофицировать старое оборванное кресло в курилке. Но это и не было востребовано жизнью, ибо об обращенной теперь уже точно ко мне команде синей коробки на моем столе я узнал почти сразу. Наша входная дверь щелкнула, приоткрылась, и, перекрывая какую-то «мыльную музыку», под которую по экрану роскошного телевизора «Рубин», ещё лет 15 назад украшавшего местный партком, сидевший на «боевом посту» Борис изучал титры очередной «Жизни в Санта-Ме» (или Санта-Фи?), раздался звонкий голос Елены Петровны: - Игорь Петрович! К шефу!.. О преимуществах курения трубки, антитабачных мерах шефа, его понимании почтительности, а также о различных трактовках понятия лояльности в нашем коллективе. Мы братски не жалели ничего Для верного народа своего: Наш собственный язык, шпионов, гарнизоны, Чины, обычаи и самые законы,- Всё, всё давали вам мы щедрою рукой… Хорошая вещь – трубка! Её, в случае экстренного вызова на рабочее место, не нужно бросать как недокуренную сигарету, искать для этого урну, прицеливаться, поднимаясь с кресла, и жалея летящий в нее (а порой и мимо!) ещё достаточно длинный белый цилиндрик с зеленеющим огоньком на конце – ну, не класть же «бычок» в пачку! Трубочнику достаточно просто положить трубку в карман и тут же быть готовым к общению с некурящим. Правда, шеф таковым не является, он смолит одну сигаретку за другой, прикуривая новую от ещё не потухшего чинарика, но оправдывает себя в последнее время тем, что курит тонкие «дамские» сигареты. В прошлые разы таких его приступов борьбы «со своей вредной привычкой» тоже находились и объяснения и оправдания весьма «правдоподобные». Например, однажды он перешел на ментоловые, поскольку в тогда ещё любимом им «Моковком коммунальце» было написано, что «ментол способствует интенсификации кровообращения и снижает артериальное давление». Однако никому из «своих» (а среди нас я один был «хэви смокером», остальные либо «баловались», либо не курили вовсе) в кабинете курить он не позволял, справедливо считая, что табачный дым не способствует повышению трудоспособности во время «рабочих совещаний» или его индивидуальной работы с сотрудником. Да и «дистанцию» во время таких разговоров с изнывающим от желания затянуться, но не смеющим хоть как-то проявить это желание человеком, держать ему было легче. Не знаю, было ли это его осознанным приемом, или он искренно считал, что привилегией курения в кабинете обладает только он сам. И, конечно, «гости». «Важные гости», разумеется. Других почти и не бывает в его кабинете – нет у него ни времени, ни желания вести «пустые разговоры». И одним из главных индикаторов нашей «профпригодности» он считал умение «допускать к его телу» только таких партнеров, после разговора с которыми он мог сказать себе, что не потратил времени впустую. Вообще Василий Васильевич считал себя демократом (не без основания, нужно признаться), но демократом, блюдущим некоторые «сословные традиции». Он, например, вполне серьезно именовал себя нашим «папой», причем, конечно, не в вульгарно-жаргонном смысле, ибо считал себя именно реальным «отцом нашего семейства» и все мы были в этом смысле «его детьми» и должны были быть в достаточной мере почтительны с ним. Он же, со своей стороны, платил нам тем же «уважительным отношением». («Мы братски не жалели ничего…»). Правда, конкретные формы такого отношения он же сам, как мудрый родитель, и определял, исходя из конкретных особенностей характера каждого из своих «детей». Меня, например, он считал (не без оснований, конечно) безмерно обидчивым из-за «съедающей меня гордыни», но терпел этот мой недостаток. Впрочем, что остается «отцу семейства», который, сам счел когда-то необходимым «усыновить» меня? Теперь-то он никак не может отказаться от «дитяти», даже если оно оказалось «с характером»! Вот, вероятно, почему со мной он всегда изысканно-вежлив и обращается только по имени-отчеству. А вот с Ильёй Стефановичем – другой разговор. Дело в том, что Илья Стефанович приходится двоюродным братом шефу. Их дед, выпускник Моковского Университета Соломон Давыдов, в начале прошлого века по причине «отсутствия средствиев к достойной жизни» подрабатывал преподаванием и был учителем у детей какого-то состоятельного человека. Летом семья выезжала в свое имение где-то под Орлом, и однажды вместе со своими воспитанниками (брат и сестра гимназисты) поехал и их учитель. А в деревне – дело молодое! – вышло так, что через семь месяцев после отъезда господской семьи обратно в Мокву у одной из «очаровательных пейзанок» «вдруг» родился сын… Как уж там «замяли дело» - неизвестно, только маленький Васёк, будущий отец Василия Васильевича, провел детство в условиях здорового деревенского быта и получил хорошую хозяйственную закалку. Семейное предание гласит, что Соломон вообще был «большим жизнелюбом» и «погулял всласть», но всех своих «внеплановых детей» не бросал и помогал их матерям, чем мог. И только потом, почти перед «Первой империалистической», он официально женился и в этом браке «был счастлив» и тоже имел детей, самым младшим из которых и был Стефан – отец Ильи. Соломон хотел, чтобы все его дети от всех любимых им женщин чувствовали себя одной семьей, «коленом Соломоновым», и все делал для этого. Вот и унаследовали двоюродные братья разные генетические особенности предков. Василий Васильевич – отцовские трудолюбие и упорство и дедовское почитание семьи, а Илья Стефанович – отцовский комплекс «младшенького» и дедовское «жизнелюбие». Поэтому Василий Васильевич удостаивает обращения по имени-отчеству Илью Стефановича только в тех случаях, когда Илья чем-то раздражает его. Илья прекрасно это знает и, услышав от шефа: «Илья Стефанович! Я бы попросил быть точнее и конкретнее!..», - внутренне поджимается и, демонстрируя обиду и покорность судьбе, тоже переходит на официальный тон: «Я, Василий Васильевич, считаю…». И тут есть тонкая грань – если раздражение перерастает в гнев, вся эта официальная шелуха облетает, как пух с одуванчика, и вполне можно услышать (даже в присутствии «милых дам») громкое и грозное: «Не пори херни, Илья!». Но при этом сам Стефанович никогда не забывается настолько, чтобы ответить столь же энергично. И всегда остается на прежней, «официальной позиции», не позволяя себе ничего более «крепкого», чем снятие в обращении отчества: «Ну, Василий, можешь меня уволить, но я все-таки скажу...» Очень бывает комично видеть (даже при обсуждении действительно важных вопросов, хотя в большинстве случаев буря протекает «в стакане воды»), как двоюродные братья, ещё 15 минут назад дружески и «без церемоний» бросавшие друг другу: «Знаешь, Вася…» в ответ на: «Да, ты прав, Илья!..» от переполняющих душу эмоций из обычных людей превращаются в две «функции» - гневного на нерадивость сотрудника начальника, и оскорбленного несправедливостью к себе, но все-таки лояльного подчиненного. Лояльность вообще является той «священной коровой», на признании святости которой держится вся «несущая конструкция» нашей фирмы. Ты можешь удивляться несуразным, по твоему мнению, приказам начальника, считать их глупыми или даже вредными, можешь иногда их втихую саботировать, но при этом не должно возникнуть и тени сомнения в том, что ты не начал вести «свою игру». А индикатором лояльности является уверенность в том, что ты не способен утаить важную информацию (как бы ни была она опасна и вредна для тебя лично) и не можешь сознательно солгать начальнику. Нет, «закон Чука и Гека», гласящий, что «если мама (или, тем более, «папа»!) спросит, мы, конечно, расскажем про телеграмму (факс, e-mail), а если нет, то что, разве мы выскочки?» никто не отменял. Понимание его естественности является одним из очевидных проявлений мудрости руководителя, а Василий Васильевич владеет секретами руководства и гораздо более сложными, позволяющими справляться и с амбициями и с влияниями «тайных струн» очень непростых характеров своих «детей». Но он бы никогда «не понял» человека, на личную преданность которого он рассчитывал и ошибся в этом. Впрочем, такое бывало крайне редко. До поры до времени, и я считал точно также, авторитет шефа был незыблем, и я вел себя в рамках такого понимания его роли и места. Но «бароны стареют», а вассалы мудреют (если, конечно, им достает для этого ума…) И приходит прозрение – авторитет не может быть ни абсолютным, ни вечным, а когда, к тому же, «Акела промахивается», или вдруг за маской волчьего оскала вильнет, раз-другой лисий хвост… И сегодня я уже понимал – у меня есть то, что я должен сохранить в себе при любых крутых поворотах начальственного настроя и настроения – самоуважение. И нет таких денег, за которые его можно у меня купить. Конечно, Стальной Вождь – абсолютный чемпион по историческому злодейству – имел основания считать, что «на крутых поворотах Истории даже крепкого седока вибрасывет из седла!», но нужно помнить, что не всякого, севшего на коня, ждет эта участь. И на любом «повороте Истории» находятся люди, которые смогли в седле удержаться. И нужно стараться попасть в их число… Всё это промелькнуло в голове достаточно быстро – пока я шел двадцать метров по коридору до двери без какой бы то ни было таблички – мы ведь одна семья и нужно ли детям видеть на родительской комнате какую-то табличку? – а всякий посторонний прежде, чем он оказывался перед этой дверью, точно знал, к кому и зачем он идет… О первом разговоре с Василием Васильевичем о положении в Амгарске, особенностях формирования платежных документов на выдачу зарплаты, моей лжи по важному вопросу и лени при исполнении командировочного задания, терзаниях муками совести в связи с этим, а также о служебной пунктуальности Лидии Федотовны. Вы видели ль преступника, Как в горести немой, От совести убежища Он ищет в час ночной? Василий Васильевич сидел за своим обширным письменным столом, левый дальний угол которого украшал великолепный подсвечник-менора и подаренный «от коллектива» часовой агрегат с нарочито открытым взору переплетением часовых колесиков и маховичков, на синей позолоте которых играл солнечный зайчик. - Садитесь, Игорь Петрович! - Спасибо, Василий Васильевич! - Ну, как дела в Амгарске? То, что он сразу начал с главного, показывало, что тот маленький листочек бумаги, который лежал перед ним на полированной глади стола, был действительно заветным «листком надежды нашей» на этот месяц. А всего-то – не очень длинный списочек, где после сокращения имен – И.С., Иг.Пет., Е.П., Тат., Лена, каких-то неизвестных мне имен, непонятных сокращений и букв – стояли одно- или двузначные числа, обозначавшие количество розовых бумажек с портретом какого-то из Президентов ДША, которые нужно будет выложить перед вызванным в кабинет сотрудником или «важным гостем». Все эти сокращения не были каким-то шифром – просто бумага писалась «для себя» и «без формальностей», но это не мешало быть ей предельно понятной для ее автора. Мне вспомнилось, что когда наследники разбирали архив великого рассейского химика Менделя Ейева, они нашли подобную бумажку среди хозяйственных документов. Там было несколько строк: «Зеленщ. – 49 коп., Сапожн. – 1р.07 коп., за мясо – 86 коп., 25 рублей – сам знаю за что, дворник. – 10 коп., да ей же ещё на извозч. – 25 коп.». Чудом, но сохранилась ведь такая бумажка! А эта, которая сейчас лежала перед Василием Васильевичем, конечно же, не станет чьим-то досужим чтением, а потребуется только ее автору через какое-то время после того, как Елена Никоновна, вернувшись из банка, выложит на этот стол из принесенного Бурым солидного кейса повышенной надежности перетянутые бумажной лентой пачки банкнот со словами: «Вот, Василь Василич, привезла. Всё нормально… Мигунчик только грустный какой-то…». (Тяжело женщине таскать такой, да и по сторонам при этом поглядывать – вот и ходит вместе с ней по таким делам Бурый). Выкладывание наличных в соответствии с росписью на бумажке будет обязательно сегодня (не любит Василий Васильевич хранить у себя «чужие деньги»). К тому же ему всегда любопытно проследить, с каким выражением лица сотрудник будет пересчитывать (а это нужно делать обязательно – денежка счет любит, да и проверить себя не мешает – не обсчитался ли сам, раскладывая банкноты по конвертам). Не менее важно и то, каким тоном, с какой интонацией он будет благодарить, т.е. зримо ощутить градус лояльности и степень благодарности каждого из своих детей в «момент истины», ибо именно в этот момент здесь происходит сопоставление самооценки с «объективной оценкой «папы»». Именно в этот момент, как считает Василий Васильевич, человек наиболее прозрачен для проницательного взгляда… Именно сейчас листочек наполнялся знаками – цифрами после инициалов. Самая последняя, самая точная на данный момент «оценка по поведению». Закончится «формирование документа» за полчаса до начала процедуры «воздаяния». И судьба у этого листочка бумаги явно незавидная – он сегодня же, после того, как последний из приглашенных покинет кабинет, будет разорван на мелкие клочки и выброшен в урну, а может даже и удостоится аутодафе в любимой пепельнице Василия Васильевича. И, хотя такие листочки, как правило, приносят нам действительную радость, но им самим мы ничем помочь не можем. Не остаются они в качестве «исторических документов», не попадают в архивные фонды (кроме архивов прокуратуры, и сходок бандюков, не к ночи будь они помянуты!), не попадают в разряд «письменных источников, использованных при написании диссертации». Просто потому, что такие листочки долго не живут – записка Менделя Ейева редчайшее исключение… Оценив все это, я нарочито равнодушно ответил: - Да нормально у них все. Пока… - А вы звонили им с утра? - Конечно, Василий Васильевич, - ни капли не смутившись, искренним тоном ответил я, - но Александр Петрович… По взлетевшим бровям Василия Васильевича я понял, что допустил какую-то ошибку. А! Я мгновенно вспомнил, что память на имена-отчества «чужих» у шефа слабая, и он не любит, когда мы в своих докладах заставляем его эту слабость обнаруживать, а потому поспешно добавил: - …их директор по коммерции, который и решает вопрос о приобретении ММА, сейчас на совещании у своего руководства… - Может, как раз об этом? - Может, Василь Василич, но мне этого не сказали. - Плохо! Нужно было во время последней командировки в Амгарск найти там какого-нибудь человека, который бы уж такую ерунду мог бы вам сказать по телефону! У вас есть там свои люди? - Да там, Василь Василич, фирма же частная, Вы же знаете – «Юкоси», у них зарплата большая и дисциплина строгая, если заметят «что не так», а тем более с клиентами шушуканье, сразу уволят… А городишко маленький – куда пойдешь? Вот и блюдут «производственную дисциплину от звонка до звонка» строже, чем при совке в Арзамасе-47, - попытался отшутиться я. - Лишних денег не бывает, Игорь Петрович, а барышни любят сладкое! Нужно было не в гостинице сидеть, а под дверью кабинета, да секретаршу шоколадками потчевать! Я промолчал. Был грех – на второй день тамошнего моего сидения я с обеда ушел отдохнуть – что-то и впрямь потянуло отоспаться после перелета в шесть часовых поясов. А шеф в это время в Мокве как раз пришел на работу. Лидия Федотовна, прозвонившаяся с вечера в Волглый и заказавшая там техпаспорт на партию ММА, получила его с утра и тут же, естественно, помчалась к шефу с докладом о своем успехе. Ей хотелось продемонстрировать свою оперативность и проницательность – ведь в случае моего успеха этот документ потребовался бы в Амгарске. «А разве можно сомневаться в успехе Игоря Петровича?», - играя в наивность, бросила она шефу, показывая факс из Волглого. Но стояло за этой ее фразой не только желание «себя показать», но и смутно осознаваемое чувство вины передо мной – ведь ей бы следовало сначала мне позвонить и узнать, нужна ли мне сейчас эта бумажка… Вот потому она и преподносила шефу свою уверенность в моем успехе. Шеф, ещё даже не выкуривший утреннюю сигаретку под чашечку кофе (Елена Петровна только залила воду в кофеварку), был раздражен такой стремительностью начала рабочего дня, но, скрывая свое раздражение, чуть суховато поблагодарил Лидию Федотовну. Однако, чтобы не расхолаживать ее трудового порыва, велел «срочно разыскать Игоря Петровича» в Амгарске и отправить документ по факсу. Разыскивая меня по заводским телефонам (чтобы сэкономить деньги на счету моего мобильного, как сказала мне она позже), Лидия Федотовна, с присущей ей в подобных случая энергией, подняла на ноги и технический отдел, и отдел снабжения, и даже бухгалтерию! А «нашла» меня, позвонив секретарше Александра Петровича, которая и рассказала ей, что, дескать, Александр Петрович уехал в банк, а я ушел в гостиницу. Шеф же, допив кофе, решил поощрить трудолюбие Лидии Федотовны, а потому поинтересовался у нее – отправила ли она факс в Амгарск? Тут Лидия Федотовна и сообщила ему, что она не знает, кому отправлять факс, а меня беспокоить не хочет, потому что ей сказали, что я отдыхаю. Услышав крамольное в рабочее время слово «отдых» и не учтя сразу разницу во времени, Василий Васильевич подумал, что я просто проспал. И вот в таком настроении тут же и позвонил мне по мобильному: - Вы где, Игорь Петрович? Не зная всех «тонкостей момента», я брякнул самое нелепое, что только было возможно в этих обстоятельствах: -Сижу в приемной, Василь Василич! Вот тут-то я и получил «по первое число»! И «звуковое это письмо» оказалось в таких повышенных тонах, ко мне ранее никогда не применявшихся, что даже с учетом возможного искажения тембра голоса при передаче сказанного через спутник связи «Молния-17» на геостационарной орбите, легко было догадаться о степени недовольства мною шефом. Я на него не обиделся – мой «прокол» был очевиден. Но с тех пор этот случай поминается каждый раз, когда Василий Васильевич в чем-то мною недоволен… - Ну, ладно, - почти примирительно сказал шеф, прочувствовав в моей душе отсутствие обиды на напоминание о том эпизоде, - идите и звоните в Амгарск так, чтобы на пальцах мозоли вспухли! Информация оттуда мне сейчас нужна как воздух! Вы что думаете, если они решат покупать, это мне ничего не будет стоить? Нужно ведь будет срочно лететь и давать конверт, а денег в кассе нет, а тут зарплата и нужно решить – сколько можно скушать, а сколько может для срочного дела потребоваться! Идите, идите!.. И звоните! - Хорошо, Василь Василич! Я встал и пошел к двери кабинета. Но на полпути меня остановил его голос: - И нечего бороду задирать! Я остановился в недоумении. Положение моей бороды почему-то было для Василия Васильевича индикатором моего настроения. Но разглядеть это положение сквозь затылок теоретически можно было только в том случае, если бы затылок принадлежал хладному трупу, для верности погруженному в жидкий азот, а бороду опаляла лампа солярия. Но я был жив и на лицо мне падала тень от плотной оконной шторы! Что это за юмор? Я не спешил оборачиваться и, как оказалось, правильно сделал. - Да я сквозь затылок вижу, о чем вы думаете – мол, самодур, тиран… А мне зарплату вам всем, чем платить? Или вы думаете, что мне не хочется, чтобы вы на нее не только в буфете лишний салатик себе позволили, но и снова на Канарах в нейлоновых трусах прогулялись? А вот только пока не получается… Ладно, идите! Я вышел с безразличным выражением лица, стараясь ничем не выдать своих чувств. На меня устремились рентгеновские взгляды и Лидии Федотовны, и Елены Петровны, да и Татьяна зыркнула. Сегодня как никогда все хотят знать – в каком настроении шеф. То есть, какие виды на урожай «капусты»? Но мне, кажется, удалось сохранить невозмутимость и непроницаемость. Не садясь за стол, я снова вышел на лестничную площадку. Пока мы говорили с шефом, уборщица успела протереть старый линолеум, положенный зачем-то поверх кафеля в прошлом году, и на полу пока было чисто – пролетевшие мимо старого помойного ведра окурки и табачный пепел покроют его теперь только к обеду. (Урну, несмотря на этажную охрану, «скоммуниздили» ещё летом, хотя на мгновение мне почему-то показалось, что в прошлый раз она тут стояла…) Трубка ещё не успела остыть и разожглась легко. Чего не могу сказать о своем душевном состоянии. На душе было тяжко. «Вы видели ль преступника?». Почему я так легко соврал, что звонил в Амгарск? Ведь, кажется, «закон Чука и Гека» требовал иного, правдивого ответа. Ведь «папа» спросил прямо и однозначно именно про звонок. И я столь же прямо и однозначно солгал! Зачем солгал – это понятно. Но почему столь легко? Вероятно потому, что знал – мне поверят. Мне, вообще-то, верили всегда. Именно в этом и состоял один из «прикладных смыслов» фирменной лояльности. Мы с Василием Васильевичем говорили друг другу правду. Конечно, далеко не всю правду (да и кто рискнет утверждать, что знает её всю?), но, как бы она ни была мала, все-таки – правду. И вот я соврал. Мог бы ведь сказать, что нет связи (что и вправду частенько бывало), что, на худой конец, мне вчера было велено звонить ближе к концу рабочего дня (о чем меня действительно просили, только не вчера, а третьего дня), а до окончания работы в Амгарске ещё полтора часа… Да ничего страшного не произошло бы, уйди я от прямого ответа, ну, предположим, так: «А вы считаете, что это необходимо сделать срочно?». Скорее всего, в этом случае пришлось бы мне всего-навсего прослушать нравоучение о вредности «житейского идеализма». Так мало ли я подобных нравоучений слышал и по менее серьезным поводам? И это пережил бы спокойно… Но я соврал, причем соврал, сообщив конкретную ложную информацию («дезу» по сути) о том, что в Амгарске все в порядке. Я, правда, думаю, что, скорее всего, это действительно так. О таких проблемах такого завода, буде они случаются, по первому каналу ТВ в новостях сообщают, а уж в Интернете бы все кипело. Но как раз в данном случае для нас было важным узнать об этом первыми. И сразу же, буквально в тот же час, «нападать», оттесняя и явных конкурентов, и маскирующихся под друзей конкУрентов, не давая им возможности обрадовать господина Старовыйного («олигарха местного значения», как он однажды представился в одном из своих многоисленных интервью) - директора завода, производящего монометиламилен. Чтобы на их звонок о том, что в Амгарске аврал, он слегка брезгливо ответил: «Да знаю я, мне более шустрые ребята все уши прожужжали об этом, я уж дал команду отгрузить через них пять цистерн… Успокойтесь и поезжайте на Закраину, там новый закон по моей наводке готовят – что б запретить бензол в бензин бухать – вредно это для окружающей среды. Вот вам и «пахотное поле» для работы – внедряйте там ММА, и я вам помогу». И не осталось бы конкурентам ничего, кроме как благодарить Василь Карпыча за его «ценную информацию», кланяться и ещё раз благодарить, прекрасно зная, что такое работа с Закраиной при нынешнем-то их премьер-министре! Но вдруг как раз сегодня в Амгарске и «поехала крыша»? А из-за моей «щепетильности» мы это проворонили? И уже тот вчерашний наш гость, который так сладко пел о «товарищеском сотрудничестве», правильно понял шефовское «пока нет» и усилил «давление на Амгарск», содрав до крови палец о диск телефонного аппарата, и не терзался при этом комплексом интеллигентской стеснительности! А в награду за это он сейчас диктует своей машинистке реквизиты Амгарского завода для уже готовой «рыбы» договора? И всплывет эта рыба в виде текста контракта и в Амгарске у Александра Петровича, и в Волглом у Василь Карпыча? Ведь прав шеф – «жирный кусок» тогда от нас уплывает! При таком стечении обстоятельств логично встает вопрос - а из чьих же «первых рук» я получу свои «лысорозовые»? Не из Татьяниных ли? Это ведь она с Мейтесом привезла из Рязани идею «подмеси» каменноугольного бензола в продукционный нефтяной (в Рязани была настолько хорошая схема, и так хорошо работали тамошние технологи, что качество продукта было существенно выше, чем требования ГОСТа). Так Татьяна и сама хотела гулять по Канарам в нейлоновых трусах! А на нас всех заработанных на этой идее «американовских президентов» явно не хватит – можно в бензол подливать хоть ослиную мочу, но до известного же предела! Нет, не понял я сам себя и своего поведения в кабинете шефа, и это непонимание не прибавило мне хорошего настроения. Хотя… О давнем застольном разговоре с шефом, поэте Высоком, солнечной Черномории, владельцах недвижимости на ее берегах и моих самооправданиях в связи с особенностями ее приобретения, а также о возвращении из местной командировки Елены Никоновна и Бурого. Покой мне нужен. Грудь болит, Озлоблен ум и ноет тело. Все, от чего душа скорбит, Вокруг меня весь день кипело. Вспомнилось, что сидели мы как-то с Василием Васильевичем в нашем «придворном кафе» над пластмассовыми тарелочками с жареными цыплятами и гречневой кашей, запивали это все томатным соком. А потом, под чашечку кофе (это - мне) и под чай с таблеткой сахарного заменителя (это – для него, поскольку медики, после гипертонического криза, порожденного невероятным нервным напряжением последних лет, тогда строго запрещали ему и сахар и любимый им кофе), как всегда в таких ситуациях говорили о чем-то отвлеченном – за едой о работе говорить неприлично. За едой мы друзья и коллеги. И, как бы «между прочим» (а «по-настоящему между прочим» говорит он крайне редко, не в его характере пустословить – всё сказанное должно иметь и смысл, и цель), он сказал, что вот, дескать, решил на солнышке погреться, съездить в Черноморию – там, говорят, многие из наших кумиров бывали, и все в один голос восторг выражали. Вот даже и барда великого нашего, Владимира Высокого, судьба якобы забрасывала. «Помните у него, - продемонстрировал мне свою память Василий Васильевич, - «В Черноморских – ох, дремучих! – страшных лиственных лесах…» Это он там написал. А я знавал его лично… И гонителей его знавал… Так что съезжу, гляну – что там в этих лиственных лесах так устрашило поэта!..» И после этого разговора через пару месяцев действительно съездил, страшного ничего не нашел, а вот красот – сверх всякой меры. Да и зачастил после первой своей поездки туда – ездил по два-три раза в год, сначала один, а потом и «братана своего», как он иногда, в минуты редкой расслабленности, величал Илью Стефановича, стал прихватывать. Потом какие-то гости оттуда к нему зачастили с бумагами явно не химического содержания, потом и мы все к этой Черномории обратились по его распоряжению – а не купят ли «черноморцы» у нас этот ММА замечательный? Ведь бензин-то на их горных дорогах ох как нужен хороший! А стоит европейский «экологически чистый» бензин даже не лоллард за литр – цены-то из-за великоханьских амбиций растут, как на дрожжах… Может, наша добавка поможет их молодой государственности и развивающейся экономике уменьшить свою зависимость от разных «Бей-Пей» и «Меллов» и сгодится для столь понравившихся им ябонских «Пойот» рязанский люксойловский «первачок» с нашей чудо-добавкой? Эти игрушки современной цивилизации черноморцы, после прекращения заваренной ими самими «европейской бузы», стали получать от мирового спонсора – организации «Семь с половиной» (так после нашумевшего эротического триллера стали называть «Джей севен энд Руша»). Дело это, разумеется, у нас «не выгорело» - мелковаты мы все-таки для международных игр даже такого, «третьего сорта» - но сама Черномория как-то примелькалась в сознании, стала обычным элементом рабочих разговоров. И вот тут я случайно узнаю (и у меня уши-то шерстью еще не заросли окончательно, да и поговаривать в нашем маленьком коллективе «меж собой» стали и громче и чаще и более откровенно), что в Черномории у шефа уже и виллочка маленькая появилась (он как-то сам при мне обсуждал по телефону с кем-то организацию пригляда за ней в периоды длительного своего отсутствия), и Илья какую-то «сараюшку на отшибе», но недалеко от шефа, приобрел… Вот так-то! Семья – семьей, а дачи – порознь! И стал «озлоблен ум» у меня… Вон Татьяна что-то такое себе строит под Ковром (так уж получилось, мать у нее из-под Ковра родом), Бурый где-то на канале «Моква-Волгла» сруб из-под Костромели обустраивает, я в своем Домопапове грядку копаю (раз в пять лет, но копаю), а Василий Васильевич – добро бы один (шеф все-таки!) – так нет, на пару с одним из якобы «наших», Ильей Стефановичем, на «виллочку» свою черноморскую пригляд из кабинета осуществляет. Даже и в рабочее время. Для себя-то, единственного, чего не пожалеешь!.. А что, и впрямь нехудо «в случае чего» стать «на время» простым черноморцем и оттуда, с берега теплого моря, поливая чудесные розы, посматривать на заваривающуюся здесь мутную кашу. Ведь после «показательного процесса» над просидевшим пока только три дня в кутузке выпускником и младшим сокурсником шефа по «керосимке» Владимиром Гусиевичем яснее ясного стало, чего именно следует ждать от нашего государственного случая… Мысли эти не прибавили мне ни оптимизма, ни самоуважения. Так смотреть на мир может какой-нибудь холоп из «людской», завидующий барскому довольству и забывающий о барской же о себе заботе. А забота-то, в моем конкретном случае, ведь даже не «барская», а «царская» - при том уровне жизни, который установился в стране после столь мною приветствовавшихся событий 1991 года. Да я и сам в эти события лепточку вложил вечерами 19 – 21 августа, стоя в толпе народа и таская вместе со своим старшим сыном какие-то железяки для баррикад. Как теперь мне понятно, после всех этих событий работа у Василия Васильевича оказалась для меня лично невероятной удачей. Свой первый визит к нему я помню до мелочей – произвел он тогда на меня сильное впечатление, особенно после двух моих предшествующих начальников, отношения с которыми у меня не сложились. Я был с ним рискованно откровенен, сказав одну фразу, которую, как теперь я полагаю, говорить не следовало бы. Просто нужно было воспользоваться «Законом Чука и Гека» - если бы он спросил… Но я сказал ему сам: «Мне кажется, что мы сработаемся, если Вы решите меня взять. Но я по натуре «кошка, которая гуляет сама по себе» и работаю до тех пор, пока согласен с тем, что мною командуют по праву первого среди равных». Зная его теперь достаточно хорошо, я не могу понять, почему тогда он всё-таки меня взял? При всем своем самомнении я отдаю себе отчет, что нигде, кроме как у Василия Васильевича, за все мои «таланты» и «прилежание», я таких денег не имел бы. Да и такой свободы, по большому счету, тоже не получил бы. Но, видимо, такова уж природа человека, ему действительно хорошо во всем только там, где его реально нет. А там, где он есть, у окружающих всегда «не так» струятся лицевые капилляры и человеку кажется, что на него и смотрят «как-то косо», и из котла зачерпывают «пожиже, чем остальным»… Но размышления о черноморских владениях шефа и Ильи объясняют, пожалуй, то, что я сегодня так спокойно и сознательно солгал Василию Васильевичу. Ведь если он счел возможным солгать мне тогда об истинных целях своей первой поездки в Черноморию, то и я имел моральное право ответить ему тем же! Правда, в отличие от моей сегодняшней неуклюжести, солгал он мастерски тонко, поскольку эта его ложь была «на грани правды» - о поэте Высоком он ведь действительно думал, но стояла эта мысль при его размышлениях о Черномории на десятом месте, мне же он представил ее как главную. И моя сегодняшняя неправда – если уж по Гамбургскому счету! – все же гораздо более мелкого масштаба по сравнению с его неискренностью. Так вот и цепляется одно за другое, «кто с мечом к нам придет…» Впрочем, это уже новый виток самобичевания и самооправдания. Довольно об этом. Снизу, из лестничного пролета, который выводил на площадку где я, по мнению всех проходивших мимо, в отличии от обыкновенных курильщиков, «отравлявших атмосферу», услаждал обоняние изысканным запахом своего ароматного «черри», послышались знакомые голоса. (Запах моего табака не нравится только двум людям – Мейтесу, с которым в командировках нам приходится делить на двоих один гостиничный номер, и Нателле, которая обречена нюхать этот запах каждый день). По ступеням поднимались Елена Никоновна и Бурый, тащивший солидный кейс. Елена Никоновна выглядела сосредоточенной (за кейсом в руках Бурого нужен был и ее пригляд), но довольной – в банке, видимо, все действительно было хорошо, и явная тяжесть кейса это зримо подчеркивала. Елена Никоновна демонстративно втянула носом воздух, пропитанный ароматом «амброзии», капиллярная сетка на ее лице, начавшая уже бледнеть в тепле, нагреваясь после уличного мороза, отразила удовлетворение от ощущаемого носом запаха, и она с улыбкой, чуть задыхаясь от подъема, сказала: - Здравствуйте, Игорь Петрович! - Здравствуйте, Елена Никоновна, - столь же дружелюбно откликнулся я, нарочно выпуская клуб ароматного дыма. - Как там дела? - спросила она, имея в виду «нашу контору», жизнь в которой протекала в столь бешеном ритме, что всякий, отсутствовавший на рабочем месте даже полчаса, мог вернуться уже «в совсем другую страну». - Да всё, вроде, нормально, - ответил я, и постучал пальцем по бриару трубки: у нас было принято при всяком выражении удовлетворения чем-то, стучать «по дереву». В случае отсутствия чего-то деревянного под рукой, следовало постучать себе по лбу. Но с некоторых пор проблема была решена кардинально - у шефа появилась специальная, отполированная и отлакированная кругляшка спила какого-то экзотического дерева, которую он привез из одного из своих многочисленных путешествий и которую «пускал по кругу» в кабинете, когда окончившееся совещание констатировало, что «в конторе всё в порядке». - Ну, дай-то Бог!- сказала Елена Никоновна и пошла по коридору, кивнув любопытному Борису, тупо пялившемуся на нее, поскольку в стареньком телевизоре «Славутич» перегорел предохранитель и он замолчал, заставив службу безопасности отвлечься от созерцания заморской американовской «красивой жизни» и заняться прямым своим делом – смотреть, кто приходит на охраняемой ею этаж. О новых преимуществах курения трубки, рассказе Ильи Стефановича об Амгарских делах, моих размышлениях по этому поводу, а также о всеобщем удовлетворении моей реакцией на рассказ Ильи Стефановича. Нет, нет! Вот он! Сейчас узнал я друга! Он – тот же все, каким был и тогда, И лишь чуть-чуть как будто покривился. Немудрено! Берут свое года! …Трубка хороша ещё и тем, что курится она долго. И пока суетливые «сигаретники» - соседи по коридору и соратники по нарушению предупреждений Минздрава, публикуемых на каждой пачке «продукции, содержащей в своем составе антикотин» - успевали трижды сменить состав своей команды в курилке, я неизменно с достоинством представлял свою фирму, не требуя (да и не ожидая!) замены… Но и трубочному перекуру бывает конец! Вытряхнув пепел прямо на грязный каменный пол (наша уборщица, Тамара Никифоровна, бывшая когда-то зам. Зав. Отдела технического обеспечения местного Вычислительного Центра, сегодня приболела и звонила с утра, что придет только в понедельник), я сунул в карман еще горячую, а оттого просвечивающую зелено-малиновым цветом сквозь брючную ткань трубку, и отправился на рабочее место с твердым желанием сразу же набрать номер Амгарска. Войдя в комнату, я сразу почувствовал, что произошло что-то не совсем обычное, что-то радостное и явно имеющее отношение ко мне. Хотя отношение это тоже было странным – веселые искорки в глазах Татьяны Борисовны говорили о том, что она предвкушает какую-то любопытную для нее динамику в развитии событий… Она быстро спрятала эти искорки за листом какого-то документа, только стрельнув глазами в мою сторону и сказав с каким-то, всё ещё непонятным мне подтекстом: - Вам звонили. Я, естественно, спросил – кто? - Да этот, во фланелевом костюме, вчерашний наш «гость». Звонил только что… Интересовался – не собираетесь ли вы в Амгарск? А Елена Петровна, «с глазками на затылке» изображала повышенное внимание к экрану монитора и никак не прореагировала на мое появление в комнате. Это ясно сигнализировало мне – нужно собраться и быть готовым к неожиданностям. Я огляделся и быстро понял, откуда ждать подвоха. Илья Стефанович сидел с масляно-довольным, но слегка смущенным выражением лица («сейчас узнал я друга»), на котором как-то особенно гордо выделялся его «монокль» - более густая капиллярная сеть вокруг правого глаза, делавшая его порой похожим на интеллигентную ипостась профессора Ум-Ужалло из известного романа братьев Иосифовых. Он молчал, как-то виновато, но с торжеством глядя в мою сторону. Было ясно, что мой приход прервал какое-то важное его сообщение «для всех». И я оказался прав. - Илья Стефанович,- раздался голос Лидии Федотовны, которая, как частенько бывало в подобных случаях, явно не желала «играть в политесы», и жаждала ясности,- так, сколько они все же берут – шесть или семь цистерн и могут ли принять цистерны с нижним сливом? Мне ведь шеф велел срочно звонить в «Желдорсервис» и заказывать цистерны на следующую неделю! Илья ещё немного «подержал паузу», глядя на меня со всё возрастающей уверенностью и даже наглостью, а потом как-то лениво и устало сказал: - Да что вы ко мне пристаете? Я ведь только так позвонил, чтобы помочь Игорю Петровичу. Он ещё помолчал и, наконец, решился «рубануть правду-матку» прямо в лицо, «по-товарищески»: - Я ведь человек маленький и бедный – табаков заморских не курю… А то ведь, пока Игорь Петрович, в клубах своих ароматных «Червей амброзии» обдумывает, с какого бока к Александру Петровичу подкатиться – а по мне, так нечего об этом думать: бери конверт и дуй в Амгарск! – там ведь рабочий день оканчивается… И, видимо, решив придать легитимности своему поступку в глазах коллектива, добавил: - Мне сам Игорь Петрович с утра сказал, что нужно бы позвонить, но, как я понимаю, после беседы с шефом он мог и позабыть об этом, они ведь с Василь Василичем там о чем-то важном говорили… И, увеличивая накал ерничества, впал в самоуничижение: - Нам, маленьким, об таких вещах и подумать страшно, да и мозгов не хватит – опилки ведь в наших головах, а не мозги… И, уже «выруливая» на приличное завершение, но все ещё в пылу торжества, закончил преамбулу своего сообщения: - Вот я и решил, не тревожа дум Игоря Петровича, не отвлекая его от новых планов, узнать – а что там, в Амгарске? И тут же, конечно, всё Игорю Петровичу и рассказать! После завершения преамбулы Илья Стефанович поднялся с кресла и уже стоя обращался прямо ко мне. Голос его окреп, и он приобрел весьма импозантный вид – чуть наклоненная выразительная голова с копной редеющих, но весьма благородных седин, маленький, но для его роста вполне солидный животик, выкатывающийся из-под белого, с риново-синатовым оттенком, хорошей вязки свитера, чуть согнутые, со сжатыми кулаками руки. Весь его облик говорил о совершенной уверенности в правильности и обсуждаемого сейчас своего поступка, и вообще – в правильности своего мироощущения. Особенно ясно это было видно по его глазам – жёстким и не скрывающим своей проницательности, чуть увеличенных очковыми «цейсовскими» линзами, ладно сидевшими в итальянской оправе, которая гармонично сочеталась и с его «моноклем», и с резко изломленными, ещё не седыми бровями. - Так вот, Игорь Петрович, позвонил я в Амгарск. Там трубочку взял сам Александр Петрович, который как раз вернулся с совещания у руководства по вопросу о том, что нужно срочно предпринять в связи с плачевным положением дел в отделении крекинга. Катализатор сел и октан бензина валится вниз. Я внутренне возликовал. Не такой уж я плохой Ремесленник. Все-таки есть во мне что-то и от Мастера! Как я угадал! Какой булыжник свалился с души! Этими своими словами Илья как будто отпускал мне грех обмана, ведь я сказал шефу правду – в Амгарске действительно прошло совещание «по нашему вопросу». - И звонок мой оказался очень кстати – он как раз размышлял о том, кому позвонить по поводу срочной поставки им 300 – 400 тонн ММА. Илья на мгновение прервался, а потом вновь подчеркнул свою удачливость: - Звонок мой в яблочко попал! Там сначала было занято, а потом, когда я «прорвался» со второго раза, Александр Петрович меня спросил – не я ли ему пять раз за последние пять минут звонил – он слышал, что звонит межгород, но как-то все срывалось… Ну, короче, договорились мы, что на следующей неделе к ним прилетит наш представитель. Он ещё уточнил: «Не Игорь ли Петрович?». На это я сказал: «Вполне возможно, но у нас решает эти вещи шеф». Последняя фраза Ильи не была, разумеется, случайной. Такая командировка многое обещала, и съездить туда было явной удачей. Так что вопрос о том, кто поедет, действительно был пока открытым. Как бы примериваясь к возможной поездке, Илья продолжал: - Понятно, что нужно привезти ему конвертик, чтобы он подписал с нами договор. Но вот какого размера – это, конечно, вопрос.… Не видел я его, а по голосу определить трудно. На этом отчет о разговоре с Амгарском Илья закончил, но было ведь и что-то после этого. Илья уже выговорился, рассказывая о своей победе, потому об остальном он говорил уже без энтузиазма, стараясь побыстрее закончить разговор: - А тут как раз шеф по «матюгальнику» ехидно так спрашивает: «А чем там занимается Илья? Опять девок по Интернету ловит?». Ну, я, естественно, возмутился таким поклепом на себя и сказал, что я-то как раз в Амгарск прозвонился… Он сразу вызвал меня к себе, и пришлось всё докладывать… Так что вам я уже не успел… Я не хотел сейчас разбираться в подоплеке этого ильевского рассказа (а она была, я это чувствовал), важнее было понять новую «производственную ситуацию». И лучше всего было это сделать, вернувшись в зеленое кресло и выкурив ещё одну трубочку. Но, понимая меня без слов, именно этого шеф мне сделать не дал. Он наверняка слушал ильевский рассказ и знал о том, что я в комнате и теперь «в курсе», но решил поиграть в отстраненность. Или захотел получить дополнительную информацию, «не выпуская» меня из комнаты – не знаю, но «матюгальник» у него над дверью угрожающе затрещал, и из него раздался вовсе не грозный, а энергичный и даже веселый голос: - А что, Игорь Петрович всё ещё с трубочкой прохлаждается? Ладно, пусть себе побездельничает – не в первый раз, пять минут ещё потерплю. Не надо его звать. Но как только появится – сразу ко мне! И коробочка со щелчком умолкла. Выйти покурить я уже, естественно, не мог, но пара минут для размышлений у меня была. Я быстро прикинул новый расклад сил. Получалось, что «медаль на грудь» за доброе известие из Амгарска и грамотно проведенный разговор с Александром Петровичем (и, разумеется, несколько «лишних» лысорозовых бумажек в раздаваемых нам сегодня конвертах) получит Илья Стефанович. Ну, что ж! Повезло «малышу», как иногда за глаза называли у нас Илью. И меня по носу щелкнул, и фирме помог и себе на очередную модель какой-нибудь электронной железки, до которых он большой охотник, заработал. Но и я не сильно проиграл – о совещании-то в Амгарске шефа с утра я «предупредил»! А, значит, получалось, что я с утра «думал о делах», а не «в небесах витал». И то, что Александр Петрович именно меня видеть хочет тоже мне в плюс идет, есть, значит, у меня хватка и сумел я нужного человека «охмурить». (Так сказала бы Татьяна, а шеф формулирует по-другому – «Сильный у Вас имидж, Игорь Петрович»). А значит лететь мне на следующей неделе в Амгарск и кушать там папоротник под майонезом и омульком байбальским рюмку «Абсолюта» закусывать… Да и командировочные у нас настолько хорошие, что я и потерю тех «лысых», которые сегодня вместо меня Илья считать будет, почти компенсирую. Сам Илья уже сел в кресло, но клавиатуру не трогал, молча барабанил пальцами по столу и с напряжением ждал моей реакции. Понятно, что и все остальные тоже ждали, как я отреагирую на рассказ Ильи. Ждали с некоторым напряжением. Внешне все выглядело так, будто и Лидия Федотовна, и Елена Петровна, и Татьяна, и Елена Никоновна, и Бурый, вроде бы были заняты своими текущими делами. Но каждый из них понимал, что и проявленная Ильей инициатива, и то, как дальше будут складываться отношения с Амгарском, напрямую повлияет на толщину их сегодняшних, и, самое главное, следующих, предновогодних, особенно желанных и значимых, конвертов. А успех амгарских дел теперь увязался со слаженностью наших с Ильей отношений. Только Иосиф Самуилович не вникал в это хитросплетение интересов и спокойно читал какой-то фолиант, спасенный им из ликвидированной библиотеки одного из лучших когда-то отраслевых институтов. Только он один не понимал той издевки, которая стояла за словами Ильи о его «помощи» мне. Все остальные умели определять толщину выносимых из кабинета шефа конвертов «на глаз», не хуже томографа просвечивая содержимое внутренних карманов пиджаков и кофточек их владельцев (особенно когда кто-то по рассеянности надевал холодный пиджак перед тем, как зайти в кабинет). А то, что за «добрую весть», которую выхватил у меня из рук сегодня Илья Стефанович, полагалось утолщение содержимого конверта, тоже ни для кого, кроме Иосифа Самуиловича, секретом не было. Так что всех интересовало – как я отреагирую на столь явный «грабеж», как буду держать удар. Я уже успокоился и потому вполне дружелюбно сказал: - Спасибо, Илья Стефанович! Вы - истинный единочаятель и умелый сотрапезник! Куда бы я без вас делся… Илья мгновенно истолковал мою интонацию в том смысле, что на этот раз я смиренно признал его победу, тут же скроил плаксивую физиономию и начал балаганить: - Ну, вот, опять меня обижают! Никто меня не любит, а я такой мягкий и пушистый… В доказательство последнего своего утверждения он кокетливо оттянул ворот своего действительно роскошного свитера и доверительно сообщил: - Одна знакомая три месяца вязала! Но плаксивость вдруг столь же мгновенно сменилась решительным рыком, обращенным к Татьяне: - Бор-ры-совна! Куда делось то письмо из Даргомыжска, где они про закрытие станции писали? Он забегал по комнате, причитая: - Важная ведь бумага! Там после самого письма и дурацкой рекламной картинки, где стрелочник переводит стрелку на «путь технического прогресса», еще список был тех станций, которые они рекомендуют для временного использования в период их реконструкции! Куда ты… Тут его глаз упал на подоконник, где Лидия Федотовна кипятила утром себе чай и… Но я так и не узнал, чем закончилось его объяснение с Лидией Федотовной. «Матюгальник» уже проснулся, и голос шефа, наверняка слышавшего в режиме прослушки рассказ Ильи и теперь, после правильного своего маневра с пятиминутной отсрочкой вызова, и мою реакцию на ильевскую инициативу, уже не маскируя свою осведомленность о моем местопребывании, с легкой укоризной произнес: - Игорь Петрович, я же просил – зайдите!.. О втором разговоре с Василием Васильевичем об Амгарских делах, нашей с ним попытке бросить курить, особенностях и традициях занятия мест на производственных совещаниях, конспект типичного выступления шефа, а также об успешно выдержанном мною экзамене, в результате чего я получил командировочное задание. С силой дивной и кичливою Добровольного бойца И с любовию ревнивою Исступленного жреца, Я служил ему торжественно, Без раскаянья страдал И рассудка луч божественный На безумство променял! Василий Васильевич сидел в своем кресле и прилаживал очередную ароматную палочку. Мы привезли их из нашей давней совместной поездки на Канары. Он тогда купил сразу несколько пачек, а я, не являясь поклонником такого ароматизатора, только одну – «за компанию». Это дело было давнее, и те, канарские, должны были уже кончиться, но теперь и в Мокве такого добра было «навалом» и Василий Васильевич наверняка уже не единожды пополнял свой запас. Но все равно, каждый раз, когда он доставал палочку, поджигал ее, и по кабинету расползался этот типичный «восточный» аромат, я вспоминал наши с ним прогулки вдоль холодного для купания январского океана с остановками в прибрежных кафе. Особенно хорошо было в одном из них, когда неспешную нашу беседу «о том о сем» время от времени прерывал фонтан, вырывавшийся из щели в лавовом наплыве недалеко от столиков этого открытого кафе при накате особенно сильной волны прибоя. Струя фонтана с шумом возносилась метров на пятнадцать красивой темно-красной колонной на фоне ясного ринового, переходящего в неоловое на горизонте неба, распадалась на части в верхней своей точке и падала на черный покатый лавовый берег, дробясь в полете на все более мелкие капли и обрушиваясь на ближайший каменистый кряж коротким, но мощным ливнем, порождающим массу мелкой соленой водяной пыли, розовой своей ватностью напоминавшую нежданное в этом месте облако… Вообще-то мне эти «восточные благовония» не очень нравятся, хотя и раздражают не сильно. Я к ним, скорее, равнодушен. Но когда там, на Тенерифе, я покупал пачку, до сих пор лежащую нераспечатанной в ящике моего письменного стола, я был не в состоянии противостоять напору шефа, особенно мощного в случаях, когда он считает, что тем или иным советом, рекомендацией, он «отечески заботится» обо мне. «Я служил ему торжественно» и вообще-то решаюсь не выполнять его рекомендаций только уж когда его совсем «заносит», например, когда он пытался заставить меня делать какую-то дыхательную гимнастику или в очередной раз склонял бросить курить. Правда, борьба с курением - дело особое. Попытки увещевать меня с этой целью предпринимались им неоднократно. Но он, как человек разумный, понимал, что каждый раз я внутренне недоумевал – дескать, «а судьи кто?» в смысле «врачу, исцелися сам!». И тогда он шел на подвиг, показывая мне пример. В таких случаях я, сочувствуя ему безмерно, иногда присоединялся к этому самоедству, и даже держался с ним пару недель… Помню курьезный по сути, но очень для меня памятный и неприятный случай. Случилось так, что я уговорил его поехать на одну «сходку» в Екатериноград, где собирались переработчики вторичного люминдия для дележа рынка вторсырья. (А мы тогда пытались – не очень, правда, удачно, - поиграть и на рынке цветного металлолома). И он решил воспользоваться этой командировкой для очередной попытки побороть «антикотинового змея». «Перемена обстановки, напряженная работа – все это отвлечет нас от козней этого гада», - сказал он мне. Но, чтобы «не делать резких движений» (а это житейское правило почиталось у нас серьезно), мы решили, что каждый будет вправе выкуривать одну сигарету в день. В любое время и в любом месте. Но – одну! По состоявшемуся уговору, можно было и «забычаривать», чтобы продолжить «законное» курение, но лучше всего позволять себе «расслабиться» вечером, перед сном, за чашечкой кофе, совместно анализируя дневные события. (Как-то не пришло в голову при этом договоре, что кофе перед сном было явно лишней деталью, но в тот момент нам обоим казалось, что эта сигаретка будет лучшей наградой нам за «трудовые подвиги», а потому должна употребляться с максимальным комфортом. А какой комфорт без кофе!). В самолете мы мужественно терпели «ломку», и пили кофе, и запивали его томатным соком, «весело» демонстрируя друг другу, что ничего другого нам и не хочется! А когда прилетели и приехали в гостиницу, то нетерпение мое и антикотиновая жажда достигли уже таких пределов, что я нарочно отстал от Василия Васильевича в запутанных гостиничных коридорах и переходах (как бы «потерялся») и где-то за углом жадно сделал пару затяжек той «единственной» на этот день сигареты, которая заранее была отложена в люминдиевый чехольчик из-под сигары (специально для того купленной и безжалостно выброшенной!)… Сознаюсь, что к этому моменту она уже не была собственно сигаретой, а представляла собой ещё солидный, но все же уже «бычок», ибо я «лишил ее девственности» еще в туалете моковского аэропорта «Домопапово», откуда мы вылетели три с половиной часа назад. Но совесть моя была чиста – «правило одной сигареты» я пока не нарушил! Правда, чистота эта была относительной, поскольку я уже решил, что оставшийся к концу дня вонючий бычок я тайно, перед оговоренной вечерней процедурой совместного анализа и распития кофе, выброшу и положу в чехольчик девственно-чистую, пахнущую ментолом, «длинноногую «Moore»» из лежавшей в кейсе изящной фиолетовой пачки. Затягивался я с наслаждением, ибо был уверен, что шеф, потеряв меня, паниковать не будет, понимая, что я не маленький ребенок и уж свой-то номер в гостинице найду, а потому спокойно пойдет к себе и ляжет отдохнуть с дороги. Но я недооценил степени его ответственности за порученных им своему же попечению сотрудников! Обнаружив мою «пропажу», он бросился меня искать. И я буквально вздрогнул от стыда и страха быть уличенным в своем «проступке», когда слева, из-за поворота коридора раздался его раздраженно-нетерпеливый голос: - Игорь Петрович! Ну, где же вы застряли? Как мне теперь кажется, он тоже был на грани антикотинового срыва и мечтал как можно скорее скрыться в своем номере и без помех выкурить (или, соблюдая уговор, только прикурить на пару затяжек) ту самую единственную сигаретку, которую он, конечно, не хранил в отдельном чехольчике, а «мужественно» достал бы из кожаного портсигара. Я знал, что он туда положил ровно три штуки – по числу дней предполагавшейся поездки. Но и он, так же как и я, не хотел обнаружить свою «слабость» и боялся, что, положив вещи в свой номер, я буду искать его для получения указаний. При этом я неизбежно «застукаю» его за той самой чашкой кофе (одна ложечка из маленькой банки и один кусочек сахара), прервав блаженство – рассмотрение Екатеринградского пейзажа за окном, в открытую форточку которого уходит тоненькая риновая струйка ароматного дыма… И он искал меня, чтобы заранее уточнить наши дальнейшие планы и взять «тайм-аут» для священнодействия с кофе и сигаретой. Я поперхнулся, замахал пальцами, как ощипанный петух, разгоняя дым, и, стараясь не дышать в его сторону, чтобы не выдать себя предательским запахом, шагнул из-за угла ему навстречу: - Да здесь я, Василь Василич!.. Он коротко взглянул на меня и, конечно, все мгновенно понял. Молча выразительно понюхал воздух, а потом сказал, устало и с досадой: - Ну, да ладно! Что я, в конце-концов, нянька какая-то, что б за вами смотреть?… Делайте как знаете… Встретимся в холле через час. И, не взглянув более в мою сторону, повернулся и пошел направо по коридору. И пока он не скрылся за дверью своего номера, я стоял и «сгорал со стыда», подобно нашкодившему первокласснику, подтверждая тем самым его представление о нас всех, как о «детях малых и несмышленых», за которыми папин пригляд ещё ох как был нужен!.. А я, остывая от этого непонятного стыда, злился и на него, и на себя (не знаю, на кого больше) и давал себе зарок больше никогда не обещать ему того, что не было бы точно в моих силах. И внутреннее это слово держал, никогда не говоря ему: «Сделаю, Василь Василич!», но всегда – «Я постараюсь, шеф…». Кстати, в той командировке особенно выпукло для меня проявилось его «звериное чутье» на опасность. Когда утром за нами пришла машина с каким-то, на мой взгляд, вполне обыкновенным референтом, Василий Васильевич, поговорив с ним буквально пару минут (я при этом не присутствовал – они разговаривали в номере шефа), сослался на неважное самочувствие и сказал, что не поедет на встречу, пока не пройдет его недомогание. Референт оставил адрес и уехал, а мне шеф, ничего не объясняя, велел срочно брать обратные билеты. Вернувшись в Мокву я узнал, что мы чуть было не попали на настоящую воровскую сходку, где, оказывается, обсуждался раздел «черного рынка цветных металлов»! Сходку посетила и милиция. Вот как описывалось все это потом в Интернете: «…разгром сходки имел скорее психологическое, чем практическое значение. Видимо, оперативники ГУБОП лишний раз хотели продемонстрировать криминальным генералам свою осведомленность в их делах и объяснить, кто на самом деле в городе хозяин. К тому же назрела необходимость обновить картотеку, которая теперь пополнилась новыми именами». Вот только этого нам и не хватало – попасть в ЭТУ картотеку… Василий Васильевич, между тем, пока я предавался воспоминаниям, приладил-таки дымящуюся палочку с каким-то «церковным» запахом, закрепив ее в специальную щель специальной подставки, закурил очередную тонюсенькую сигаретку из плоской, в один ряд, светлонеоловой, почти белой пачки, и сказал: - Да вы присядьте поближе, Игорь Петрович! Не на совещании же мы… То, что он пригласил меня в другое кресло, было знаменательно. И уж точно это не было пустой формальностью! Дело в том, что на общих обсуждениях, которые назывались «совещаниями», каждый из нас имел в его кабинете строго определенное место, определявшееся как «историческими традициями» (кто как когда-то сел), так и положением садившегося во внутренней иерархии. Последнее определялось теми волевыми «поправками» хозяина кабинета (взгляд, а то и жест), которыми он указывал «забывшемуся» сотруднику его место, когда рассаживал вошедших в кабинет по команде: «Все ко мне!». А такая команда раздавалась из динамиков «оперативной связи» на наших столах раза два-три в день. «Поправки» усваивались быстро и путаницы не возникало почти никогда… Разве только Иосиф Самуилович вдруг, задумавшись о технологических аспектах какого-нибудь пятого начала термодинамики, ничтоже сумняшися, не занимал кресла Бурого, которое стояло ближе ко входу, или Елены Петровны, в таких случаях смущенно топтавшейся рядом, не решаясь побеспокоить мировую знаменитость, и получала возможность обустроиться на своем месте только после того, как заметивший неловкость шеф говорил чуть с укоризной, но мягко, понимая, что тут нет злого умысла: -Йося, подвинься, дай трудолюбивой ее место… «Иерархические Правила занятия места» были, разумеется, неписанными и довольно сложными – я так и не понял многих их тонкостей. А они были. Например, где должна была сидеть Елена Никоновна, всегда бывшая по «иерархии» отнюдь не «у башмаков фортуны», но которую все эти заморочки с химическими составами, сливными патрубками, и прочими техническими подробностями не касались вовсе? Ведь ее могли в любой момент позвать к телефону, на другом конце провода которого сидел сам Митя из банка! Естественно, только рядом с выходом из кабинета, чтобы успеть по пути до своего стола выкинуть из головы занудные фразы из доклада Бурого о крючкотворстве закраинской таможни, вспомнить номер и дату последней платежки, а так же и указанную в ней сумму до копейки. И при этом не заставить Митю даже предположить, что по его звонку она, Елена Никоновна, мешкает с ответом! Но «в первом приближении» физическая «близость к телу» начальника означала и большее беспокойство при обсуждениях, поскольку шеф чаще обращался к «ближнему кругу» с вопросами и внимательнее следил за реакцией на свои рассуждения, но и… большую толщину конвертов, получаемых в «день воздаяния»! Мое местоположение в последнее время (а за все время работы я занимал разные места и в разных кабинетах, случалось, что и «о шую» кое-где сиживал!) было таково, что я сидел даже не за столом, а в покойном кресле у стены, рядом со шкафом и журнальным столиком. И мог даже, при желании, не смотреть в глаза шефа, поскольку между нами располагалась широкая в плечах фигура Ильи Стефановича. Мне это было очень удобно – иногда я буквально засыпаю под монотонный, на полчаса, монолог шефа. Типично начинался он с того, что «Мы все – одна семья и потому нужно лучше работать и думать не о девках (взгляд с сожалением в сторону Ильи), и не о бревнах (укоризненный взгляд в сторону Бурого, который как раз собирал свой сруб), а о том, чтобы до мозолей на пальцах, до крови на ладонях, крутить диски телефонных аппаратов (поощрительный взгляд в сторону Лидии Федотовны) для привлечения новых покупателей». Дальше монолог развивался по спирали. «Наша надежда – наша фирма. И сейчас нужны новые схемы, а не девичьи слезы (вызывающий взгляд в сторону Татьяны), нужно выдавать новые идеи, а не мямлить за мой счет по телефону «Вас беспокоит… Из Моквы…» (колючий взгляд на Иосифа Самуиловича). И помните, только здесь, в этом кабинете, вас действительно ценят. В любом другом месте за 200 «розовых бутонов» люди буквально пашут на начальников, которым наплевать на их проблемы (упорный взгляд на сидящую «очи долу» Елену Петровну), которые компьютеры не для «политики» держат (ищет глазами меня, но натыкается на ответный взгляд Ильи, недоуменно вопрошающий: «Ты что, опять про меня?»)…» Если все-таки начальственный взор пробивается за ильевский затылок, я за время задержки освобождаюсь от дремы и придаю глазам осмысленное выражение. Правда, не всегда успеваю окрасить его соответствующей виноватостью, а потому с командного поста мой ответный взгляд кажется упрямым и дерзким. А после этого монолог уходил на третий круг: «Вокруг – одни волкИ поганые, а мы – одна семья. И слушайте папу, папа плохого не пожелает, и только папа защитит вас…» Так что дремать за спиной Ильи действительно, как правило, удобно. Но вот когда этот, по столь упорно внедряемой в наше сознание Василием Васильевичем генеалогической классификации сотрудников, «единокровный мне брат», глядя, как положено, в глаза шефа, а ко мне обратив хорошо подстриженный затылок, и, даже ухом не поведя в мою сторону, вещает своим красивым и уверенным голосом: «Я, конечно, лентяй и бездельник, но за фирму болею, ты знаешь это, Василий. А вот Игорю Петровичу, при его уме и способностях, нужно бы поменьше грезить о мировых законах, а побольше общаться с коллегами…», мое «географическое положение» в кабинете не кажется мне таким уж большим подарком судьбы… Сейчас же шеф посадил меня именно в ильевское кресло и рассудительно сказал: - Ну, что же! Вы были правы, в Амгарске действительно о нас не забыли, и я был совершенно искренен, когда благодарил вас за прошлую туда командировку. Теперь, благодаря разговору Ильи Стефановича, ясно, - «ненавязчиво» похвалил он Илью и, одновременно, пожурил меня за нерасторопность, - что уж на 6 – 7 цистерн мы можем рассчитывать! Теперь нужно срочно лететь в Амгарск и «дожимать вопрос»… - Конечно, Василь Василич! – отозвался я с энтузиазмом, - и дожимать лично, в кабинете или в ресторане… - Каковы ваши предложения? Шеф любил устраивать такие экзамены – проверять зоркость и остроту взгляда своих послов. Конечно, мне было далеко до таких асов «финансового взвешивания» как Илья или набирающий в последнее время силу «Бурый» - Сергей Беремшин, постепенно теснящий наших фирменных «зубров» (или, по классификации шефа, «волчар») с их позиций. Он уже сидит за столом совещаний по правую руку от Ильи. И так удачно, что если не считать места шефа (а не считать его в действительности мог бы только глупец или безумец, каковых в этом кабинете побывало, правда, немало, но ни один из них так ведь и не удостоился штатного места), то оно, пожалуй, было самым «начальствующим» и «демократическим» одновременно. Все основные «игроки» были равномерно рассредоточены вокруг кресла Бурого. И, когда с некоторых пор шеф время от времени пытается играть в демократию (не уверен, что это бывает именно сознательная игра, может быть – это просто самообман «стареющего барона»), своим «заместителем» он назначает именно Бурого. Он даже провел пару каких-то «самостоятельных» обсуждений «в роли начальника». Но ни Ильи, ни Бурого, на этот раз в кабинете не было, и вопрос адресовался именно мне. Выдержу я сейчас экзамен – полечу в Амгарск самостоятельно. Нет – будет со мной «помощник», чтобы, выражаясь на нашем жаргоне, «таскать портфель» за мной. (Я, вообще-то, и по натуре, и по классификации шефа, «одинокий волчара», и не люблю работать ни «под кем-то», ни «над кем-то», а «вместе с кем-то» удается крайне редко, пожалуй, я могу припомнить только наши ранние с Ильей командировки в Берлингуер, где мы пытались организовать производство керамических плиток из жженой опоки). То есть формально в случае, когда рядом со мной будет некий «носильщик портфеля», я буду работать «над кем-то», но, как не скрывает своего отношения к таким тандемам шеф – этот Некто должен и «приглядывать» за мной («для пользы дела», разумеется), чтобы вечерами, в гостинице, давать советы «по деликатным вопросам». При этом советы будут такими, что я либо должен буду принимать их сам и сразу, либо получать озвученными уже в форме указаний по телефону из Моквы от Василия Васильевича. Вот почему я внутренне собрался, сконцентрировался, и представил себе ещё раз кабинет Александра Петровича, амгарского директора по финансам, вспомнил его крупную, чуть рыхловатую фигуру в дорогом темно-неоловом костюме, открытое, не очень яркое, но весьма выразительное лицо с характерным, чуть «приглушенным» рисунком лицевых сосудов. Это однозначно свидетельствовало - не был он склонен к коньячным развлечениям, и решать вопрос нужно будет именно в кабинете, а водку с омулем пить за успех придется одному в гостиничном ресторане. На этом лице явно было «написано», что его обладатель не для того лишь явился в этот мир, чтобы мерить байбальскую тайгу с ружьишком на плече да гонять по Амгаре на «стосильной» яхте, распугивая по утрам браконьеров. По густо ветвящимся ниточкам сосудов в лобовой части, да ещё такого «благородного» рисунка (почти как на портретах Рембрандта или Серова), легко было распознать его предрасположенность к умственной работе, причем рисунок был здорового оранжевого цвета. Вспомнил и его постоянные сетования на зависимость от моковской администрации «Юкоси», ностальгические сожаления о временах, когда он сам был технологом и думал о температурных режимах в колоннах, а не об обеспечении ярко-синими, хорошо видимыми на фоне дневного неба, форменными куртками монтажников-высотников. Мысленно отметил его беспокойство за дочку – студентку одного из моковских ВУЗов («Ох, опасна и соблазна для девиц Моква-река», - напел он мне как-то строчку из известного в свое время хита молодой Аллы Страховой). Всплыли в памяти и его рассказы о каких-то мелочах быта – например, о предпочтении им и моего любимого кофе «Чибо». И, собрав всю эту информацию на одной чаше весов, я на другую мысленно бросил «штуку лысых». Чаша эта оказалась явно легковатой, и пришлось добавить ещё «штуку». Коромысло весов дрогнуло, но чаша с моей информацией так и не пошла вверх. Я вздохнул, демонстрируя шефу, как тяжело мне планировать расходы родной фирмы. Правда, говоря начистоту, жалко было не денег фирмы, жалко было «вынимать живые деньги из собственного кармана». (Точнее, из того кейса, который Бурый и Елена Никоновна внесли в этот кабинет сорок минут назад и который пока так и стоял возле левой, дальней от входной двери, тумбы шефовского письменного стола). И вынимать для амгарского «чужого дяди», лишая тем самым себя, шефа, Илью, Татьяну и всех остальных законно нами заработанных и предвкушаемых нейлоновых трусов. Но ведь без этого сегодняшние «короткие трусы» все равно износятся не дольше, чем за месяц, а исчезнут те, длинные, которые не только срам прикрывают, но даже и колени греют, причем исчезнут даже в перспективе, а потому я и выдохнул решительно: - Пять, Василь Василич! Он остался абсолютно бесстрастен, и только чуть вздрогнувшая рука, в коротких, пронизанных темно-красными капиллярами пальцах которой светился зеленый огонек очередного карандашика легкой сигареты, показала, что я услышан. Помолчав ровно столько, сколько потребовалось бы на серьезные раздумья, не будь в его голове уже сформированной с учетом известных и неизвестных мне обстоятельств цифры (а она была – я в этом уверен, поскольку на том клочке бумаги, который я уже видел на его столе, я сумел разглядеть шефовсие каракули «Ал.Пет., Амг» и какое-то число, скрытое от моего взгляда лежащей на бумажке авторучкой), он спокойно сказал: - Хорошо, Игорь Петрович! Скажите Елене Никоновне, что вы согласовали эту цифру со мной. Потом внимательно посмотрел мне в глаза. Я уже мысленно ликовал, поскольку вопрос о «носителе портфеля» даже и не возник, а это означало мою победу, но внешне старался не проявлять своих чувств. Мне показалось, что я выдержал этот взгляд достойно. Но он вдруг спросил: - А что, Александр Петрович там один? Разве никто больше из отдела снабжения и транспортного цеха вам не нужен? А в бухгалтерии, чтобы платежка вовремя пошла, а секретарша, которая должна протокол написать?.. Вы что, успеете их всех «окучить»? Я мгновенно понял, что радоваться было ещё рано, и что вот именно теперь и появилась на моем пути в Амгарск та кочка, споткнись я на которой, и меня тут же услужливо «поддержит под локоток» тот самый «помощник с портфелем». Соображать нужно было быстро, а отвечать – весомо. И я сумел сохранить холодность рассудка и ответил в том же спокойном и уверенном тоне: - Конечно, Василь Василич, всё это я тоже понимаю, но думаю, что если я не буду сидеть в гостинице, то сумею все эти задачи решить. Я слегка усмехнулся, пряча за усмешкой свой страх за результат использования этого рискованного аргумента. Риск состоял не в том, что я признавался в своей возможной слабости, а в том, что этим признанием я довольно грубо льстил его проницательности относительно этой моей слабости. А он – это я знал ещё со времен начала нашей совместной работы - тонко чувствовал лесть в свой адрес, отличал от искреннего восхищения и, естественно, не любил ее. Но эта способность – умение увидеть под маской почтения льстивую усмешку – довольно быстро теряется. И у человека, достаточно долго пребывающего начальником, ожидать наличие такой способности было бы по-юношески наивно. «Здесь и сейчас» и я уже не был юнцом, да и он второй десяток лет разменял «на руководящей работе». Но его «менеджерский талант» был столь велик, что вполне могло оказаться – не утратил он ещё этого счастливого для всякого руководителя и губительного для подхалима качества. Так что я и грешил и рисковал серьезно. И уже второй раз за сегодня. Что это со мной? По его колебанию, которое я легко почувствовал, ибо он его и не скрывал, задумчиво вороша кончиком ножа для разрезания книжных страниц пепел от почти сгоревшей ароматной палочки, я понял, что игра идет «ва-банк», что сейчас – «или грудь в крестах, или голова в кустах» - и столь же спокойно и с той же усмешкой продолжил: - И стоить это будет не дороже, чем посылать со мной носителя портфеля с «шоколадками для секретарш». Этот новый поворот помешал ему осознать смутно прочувствованную фальш моей предыдущей фразы, он нахмурился (перспектива новых «накладных расходов» всегда вызывала в нем естественное раздражение). Прикинув в уме цифры (полет в Амгарск – это не пустяшная поездка в какой-нибудь Старомоковск или даже Рязань, и командировочных денег съест столько же, сколько чуть ли не десяток поездок в Даргомыжск), Василий Васильевич угрюмо спросил: - И сколько же это, Игорь Петрович? - Две, Василь Василич, - твердо ответил я. - Ну, обойдетесь в полторы,- не менее твердо поправил меня он,- купите секретарше «Катюшку», а не «Рафа Эллу», а Александру Петровичу привезете не «Курвозелье», а бутылку «Моковского»… И закончим этот разговор. Идите и готовьте проект договора. Покажете его мне и можете бежать покупать билет в Амгарск. На завтра – нечего здесь сидеть! В Мокве денег нет. За ними ездить нужно… Всё! Победа! «Возликуй же, гордый Расс!...» . Но наваливалась не радость, а усталость и чувство некоторой брезгливости, как будто недостаточно чисто вымыл руки после посещения «места сообразного облегчения». А потому я ответил, не очень выдерживая правильные интонации: - Спасибо, Василь Василич! Постараюсь не подвести… - Ладно, ладно!.. Спасибо вы мне сегодня после обеда говорить будете. И когда я вас вызову, не надевайте пиджака со спинки кресла – пусть он будет на вас тепленьким. (Это он намекает на предстоящую выдачу конвертов и предупреждает от конфуза). Идите, но не болтайте там лишнего! (Тоже мне, «секрет Полишинеля», все давно уже ждут этого «после обеда»!). - Конечно, Василь Василич! Я же понимаю… И я вышел из кабинета, ощущая, несмотря на груз усталости, пробегающий по спине холодок – то ли от трепыхания вдруг прорезавшихся крыльев, то ли от страха провалить это дело, за которое я теперь отвечал и перед «фирмой», и перед собственным пониманием успеха, которое открылось мне четверть часа назад на грязном салатовом кресле курилки под плакатом с энергичным предупреждением: «…НО!». Об обеденной церемонии в нашей фирме, языковедческих аспектах конкретного бизнеса, застольных беседах Василия Васильевича с Иосифом Самуиловичем и Ильей Стефановичем, маленьких женских секретах, а также о моей житейской хитрости и нумизматической удаче. Молись, кунак, что б дух твой крепнул; Не плачь; пока весь этот мир И не оглох и не ослепнул, Ты званый гость на божий пир. Я не пошел курить – наш разговор с шефом не был особенно долгим, а трубка утоляет антикотиновую жажду хорошо, да, к тому же, было уже почти два часа, и вот-вот должна была начаться «обеденная церемония». Она у нас, конечно, более проста, чем классическая чайная в Великоханьской Империи, но, если рассматривать степень традиционности как отношение срока существования какой-либо церемонии к длительности исторического периода существования общественной структуры, где она действует, то наша «обеденная» могла бы поспорить и с великоханьской «чайной». Наша церемония сложилась на самых первых этапах существования «Ипотеха», в начале 90-х годов. С тех пор и по сейчас мы продолжали «самоидентифицироваться» именно так. Хотя формально и официально как арендаторы мы сейчас назывались «Химтранзит». Дело в том, что названий наша фирма за эти годы сменила не меньше, чем я рабочих костюмов или Илья «боевых подруг» - чудеса рассейской налоговой системы заставляли порой переименовываться два, а то и три раза в год. Но образовались мы именно как «Ипотех». Формально это словообразование являлось аббревиатурой типичного бюрократического воляпюка «Инженерно-производственная оптимизация технико-экологических характеристик», а вариантам трактовки наших остроумцев несть числа – от псевдо-фольклорного «И потенье и потеха» до поэтических шедевров а-ля Саша Приванов – «Извлечение пользы из тени этой хренотени». Были, конечно, и непечатные расшифровки… Все остальные названия-полугодовки забывались быстро. «Химбико», например. Стандартная аббревиатура: «Компания химического бизнеса». А бывали среди них и презабавные – например, «Милфорд сервисес эксклюзив» (это в период расцвета офф-шоров). Помню, какая морока была в заводской бухгалтерии Нижневолглого Верхнепиндюшанска с оформлением договора на утилизацию производственных отходов. Мы освобождали их от мороки с местным «Госприроднадзором», забирая ядовитый шлам, которым они до тех пор много лет отравляли Волглу, но на нас смотрели как на «врагов народа», продавших «Матушку-Рассею» и подозревали в связях не только с Туманным Альбионом, но и – не к ночи будь помянут! – самим Телль-Анивом . Или, помнится, было такое ЗАО «ДЭМИ». Кто такой этот Дэми, я и сам не знаю до сих пор, но отчетливо стоит в памяти картина, как на каком-то техсовете в Казани Илья Стефанович бодро расшифровывал «эту аббревиатуру» собравшимся в кабинете Главного технолога начальникам цехов как «Добротно-экологические маслорастворимые ингредиенты»! И от этой чехарды официальных названий порой «ехала крыша» у нас самих. Мы сами запутались в собственных именах, и забавно видеть порой, как Илья или Татьяна (Бурый – никогда. У него отличная память на такие вещи) зажимают микрофон телефонной трубки ладошкой с ярко пульсирующей от волнения сеткой пальцевых сосудов, и почти истошно кричат по направлению к углу, где стоит стол Елены Никоновны, хранящей тексты всех наших договоров: «Лена!!! Кто мы сейчас в Каппелевце?!». И испуганная энергией этого вопля Елена Никоновна, у которой в обычных обстоятельствах (даже при неожиданном Митином звонке из банка!) ответ на такой вопрос «отлетает от зубов», лихорадочно листает пухлую папку переписки с Каппелевцем в поисках нужного договора… Но, повторяю, между собой мы остаемся «ипотеховцами». В последнее время у меня это слово связалось с входящим в обиход (и в моду!) термином «ипотека». Я ощущаю это понятие как современную, цивилизованную форму рабства. Вспоминается в связи с этим такое двустишие Вишневецкого: «Квартира, дом… Увязнет коготок – за них всю жизнь теперь пахать, браток!» Впрочем, местонахождение халявного кусочка сыра хорошо известно. А за все «реальные блага», которые нам нужны, чтобы «чувствовать себя белым человеком», нужно платить, и платить регулярно, вовремя отдавая свои долги. И я полностью согласен с классиком нашей литературы Николаем Континентальским: «Надо прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире - борьбе за освобождение человечества от халявной химеры». Пока я предавался этим размышлениям, «обеденная церемония» началась. Она порой различается в деталях, поскольку жизнь наша чревата командировками как огромная тыква, выросшая на нателлином огороде, белыми жесткими «семечками», но суть ее оставалась неизменной. Ещё со времен нашей первой «штаб-квартиры» на пятом этаже старенькой пятиэтажной крущебы без лифта повелось, что открывает церемонию Бурый. При его отсутствии начинаю я, или Илья, или ещё кто-то из «ветеранов». И первым церемониальным действием является «разговор с дверью». Бурый, или тот, кто его заменяет, подходит к двери шефа, подмигивает всем сидящим в комнате, и нажимает кнопку голосового вызова: - Василь Василич, можно пойти пообедать? И дверь откликается голосом шефа: - Идите, конечно, если невтерпеж! Но если пять минут подождете, пойдем вместе. Стоящий у двери бодро сообщает: - Конечно, подождем! А девочки пусть идут, ладно? Дверь секунду-другую размышляет, а потом решительно накладывает на это сообщение «высочайшую резолюцию»: - Татьяна и Елена! Что б не опаздывать! Одна нога там – другая здесь! И крутить, крутить, крутить телефон! Но этой резолюции «девочки» уже не слышат – после первой же фразы начальствующей двери: «Идите, конечно…», - выходная дверь из комнаты в коридор успевает за ними захлопнуться… Мы же – те из «мужиков», кто в данный момент не «прохлаждается в командировке» - маятно слоняемся по комнате ещё минут 10 – 15, поглядывая друг на друга голодными глазами. И вот, наконец, кабинетная дверь быстро открывается и в комнату бодрым шагом входит Василий Васильевич. Почти не глядя на окружающих, он направляется к двери в коридор, бросая на ходу: - Пошли, кто со мной!.. Тут уж не зевай, «ты званый гость на божий пир» – шеф любит, чтобы шли обедать все вместе, гурьбой, демонстрируя единство не только «на работе», но и «в быту». И если кто-то в этот момент к своему несчастью был удерживаем у рабочего стола не к месту прорвавшимся важным телефонным звонком, то Василий Васильевич, обнаружив его отсутствие, демонстративно останавливался в конце коридора перед выходом на лестничную площадку-курилку, и ждал, когда несчастный присоединится к общей группе, нетерпеливо при этом приговаривая шутливым тоном: - Ну, где этот лентяй, в данную минуту симулирующий работу? Сегодня процедура несколько усложнилась из-за того, что дверь на лестничную площадку была закрыта. Оказывается, из-за сильного холода на улице девочки из соседнего с нами офиса какой-то то ли испанской, то ли турецкой фирмы, пожаловались, что с площадки сильно дует. Все утро терпели, а к обеду, видите ли, замерзли настолько, что попросили закрыть дверь и дежурный сделал это, обрекая себя на мотание по коридору перед каждым «фирменным» (сотрудником фирмы-арендатора) курильщиком. Увидев нашу группу, к нам поспешил охранник - все тот же круглолицый Борис, но не один, а в сопровождении своего нового шефа. Этот недавно, недели две или три тому назад, сменил старого – сухонького живчика, Аркадия Ильича, крикуна и матершинника, известного нам по его разносам, разлетавшимся по всем коридорам этажа, когда он, бывало, орал на встрепанного и осоловевшего от бесконечного американовского телесериала секьюрити, не заметившего прихода начальства: «М…к стоеросовый! З…пу чешешь на посту? Куда смотришь, раз…ай!». Этот же был совсем другой - грузный, вальяжный, добродушный боровок, в приличном фланелевом костюме цвета маренго, время от времени ходивший по этажам проверять несение службы «своими орлами» и никогда не повышавший голоса. Вот и сейчас он случайно оказался в нашем коридоре так тихо, что я даже сначала не обратил на него внимания. Подошедший Борис услужливо – и даже подобострастно! – поздоровался с Василием Васильевичем и представил его своему начальнику: - Это Генеральный директор наших самых дисциплинированных клиентов - и дверь за собой закрывают, и никаких к ним пустых людей не ходит – всё люди солидные, вежливые… Потом представил своего начальника шефу: - А это мой шеф, Мефодий Филиппович, дай Бог здоровья его авторучке, которой он подписывает нашу ведомость на зарплату. И, продолжая свою незамысловатую шутку, продолжил: - И пусть в ней чернил будет побольше – чтобы ряд нуликов после циферок был подлиннее!.. И, открывая ключом дверь, пожелал нам приятного аппетита, демонстрируя тем самым перед своим шефом осведомленность в нашем распорядке дня. Мефодий Филиппович за все это время не произнес ни слова. Он только вежливо кивнул Василию Васильевичу при представлении и дальше с улыбкой слушал «хитроумные» пассажи Бориса о желательности повышения зарплаты. В соответствии с процедурой, начиная с этого момента – выхода за территорию этажа - и до конца обеденного перерыва, Василий Васильевич переставал быть «шефом» и «начальником», а становился «просто одним из нас». Теперь с ним можно было общаться «запросто» (без фамильярности и амикошонства, разумеется, фамильярности он вообще не терпит, но допускает ее сознательную имитацию, когда собеседник и он надевают эту маску, чтобы подчеркнуть дружественность и неформальность общения). Теперь можно было и «говорить глупости», и болтать о политике, о делах семейных и вообще «чувствовать себя как дома». Но внутри он, конечно же, оставался все тем же «железным канцлером» и память его все также четко фиксировала все сказанное, как и на «рабочих собеседованиях» в кабинете. Это позволяло порой решать важные вопросы, задавая их как бы «по забывчивости» среди прочей болтовни. Но быстро перейти даже к «управляемой демократии» из патриархального благолепия бывает трудно, и первые минуты «свободы» всегда несколько напряженны. Сегодня это напряжение помог снять открывший дверь ключник. Комментарии по поводу его незавидной доли (уже после того, разумеется, как дверь за нами закрылась) высказал и Илья Стефанович, и Бурый, и даже я. Они свелись к тому, что за две-то сотни «лысых Президентов» в месяц вот так мотаться целый день по коридору со связкой ключей, подобно Плюшкину, пусть и в удобном для здоровья режиме «сутки-трое» и с возможностью приработать на рыбалке, конечно же, весьма обидно для бывшего профессионала-топтуна советского КГБ. В том, что Борис относился именно к этой категории, ни у кого сомнений не было. А в это время одинокий «лентяй», роль которого на этот раз выпала Иосифу Самуиловичу, бросил, наконец, телефонную трубку, и, как ошпаренный, вылетел из комнаты, чтобы побыстрее присоединиться к – он знал это! –ожидавшему его «отряду бойцов» (так и не успев, вместе с предусмотрительным большинством, посетить перед обедом места «уединенного облегчения»). И вот после того, как он оказался среди неторопливо переговаривающихся на лестнице и терпеливо ожидающих его «собратьев», вся мужская часть команды, окружавшая Василия Васильевича в коридоре, уже расслабляясь, жестикулируя, но все-таки плотно, «могучей кучкой», устремилась в кафе. Там уже минут двадцать как сидели Татьяна Борисовна с Еленой Петровной. Сегодня, как это уже бывало иногда, при неожиданном появлении в зале нашей толпы, они не успели переставить на соседний столик пивные бокалы (или даже рюмки?…), но шеф, как обычно, «не заметил» этого даже после выразительного хмыканья Ильи Стефановича. Церемония при этом плавно перешла в свою практическую фазу – насыщение страждущих. Заказав блюда, мы рассаживаемся за столом (лучше если за одним) и вот тут-то отрывочные реплики заявленных при спуске по лестнице тем для обсуждения, выливаются в «свободный треп», подначки, обсуждение политических слухов и сплетен. Вот и сегодня, с удовлетворением оглядев сидящих за столом (все свои, «родные кровинушки!»), Василий Васильевич повернул голову в сторону Иосифа Самуиловича и сказал: - А вот плохо ли, Йося, что ты сидишь и не думаешь, какой салатик заказать? Витаешь себе где-то в облаках, а о салате и не думаешь! Ты-то ведь не знаешь, как ещё когда мы в пятиэтажке сидели и ходили из нее в ЦИАПовскую столовую, я, встречаясь с тобой в очереди, думал: «Вот светлая голова, мировая знаменитость… Иосиф Самуилович попытался что-то возразить, но был остановлен взмахом шефовской руки с яркой сеткой капилляров на ладони – в кафе было довольно холодно. - …А стоит в очереди вслед за очаровательной пышечкой – но ведь пустышкой же! – Аллой Сергеевной и считает свои копейки в кармане, - продолжил прерванный попыткой возражения монолог Василий Васильевич, - и прикидывает: хватит ли на винегретик, или нет?». Я тогда ещё решил, что когда ты будешь работать у меня (недоуменно взлетают брови на лице Иосифа Самуиловича, но он уже не пытается открыть рот), таких проблем у тебя не будет. И ведь прав оказался, а? - Да брось ты, Василий! – возбудился теперь не удерживаемый ничем Иосиф Самуилович (и это его энергичное «Василий!» прозвучало вполне естественно, поскольку Иосиф Самуилович был лет на 15 старше шефа), - Разве в салате дело?! Помнишь, как мы с тобой для Володи Высокого приглашение к нам на «устный журнал» выбивали? Какую мы тогда в парткоме интригу вели и чего только не наслушались, когда слух о наших «поползновениях» дошел до самого Филиппа Горошкова? И о салатах ли тогда мы думали? Начав столь энергично, Иосиф Самуилович хотел прежде всего дать отпор шефу за его «мировую знаменитость» - сам он себе цену знал (и она была достаточно высока), но на «мировую знаменитость» все-таки «не тянул», и потому всегда обижался на попытки льстивого, как он считал, преувеличения «объема» своей персоны. Но первая мысль, которую он успел озвучить, относилась ко временам, когда они с Василием Васильевичем совместно работали в ЦИАПе («Центральном институте агрохимической промышленности») и имели счастье общаться с Владимиром Высоким, поскольку театр, где он играл, был в пяти минутах хода от ЦИАПа, а парткомы театра и института подчинялись одному райкому. И коллективы, которые возглавляли эти парторганизации, директивно «дружили» друг с другом, а может даже и «соцсоревновались». Поэтому театралы из ЦИАПа бывали и на премьерах, и в артистических уборных. Услышав тему диалога Василия Васильевича и Иосифа Самуиловича, я, конечно, позавидовал обоим, ибо видел Высокого только два раза в жизни – на концерте его в «Мендель-лавочке», когда поток оставшихся без билетов студентов просто снес старинные дубовые двери Большого Актового Зала, где проходил концерт, и в роли Керенского в самом театре. В этом спектакле тогда, во времена «застоя», «официально» (!) звучали песни Высокого, с тех пор давно «разошедшиеся» на пословицы и сегодня беззастенчиво используемые рекламщиками – «Есть вода, холодная вода, но пейте водку, водку «Господарь»!». Диалог наших патриархов, однако, ещё не закончился. Но попытка продолжить свою речь и проявить достойную скромность, открестившись от «мировой знаменитости», Иосифу Самуиловичу не удалась – снова вступил шеф: - Ну, Йося, не скажи! Тогда ведь и для Володи выступление у нас было не просто «творческой встречей со зрителями», но и возможностью получить от нашего профкома солидный «конвертик без марки»! - А в конвертике-то лежала, уж конечно, не «Почетная Грамота», - встрял в разговор Илья, - и – увы! – не пачка «вечно розовых и лысых», а унылые зеленые совковые «ленинские лбы», правда, в приличном количестве! Иосиф Самуилович не обратил на эту реплику ровно никакого внимания, если не считать снисходительно-высокомерно взгляда на Илью. Его захватили воспоминания той, как ему казалось, романтической поры, и он начал новую тему, обратившись к Василию Васильевичу с вопросом: - Ты ведь помнишь, как мы однажды попали на выпускной спектакль какого-то театрального училища и потешались в полупустом зале над бездарностью режиссера? Это, кажется, был «Тартюф» Мольера. Так вот, представь себе, я узнал недавно… Но неожиданно его оборвал сам Василий Васильевич: - Да ерунда все это, Йося! Не в режиссерах-недоучках и даже не в Володиных песнях дело тогда было. «Тогда мы были молодыми и чушь прекрасную несли». И любили нас молодые девчонки, и именно борьба за их любовь, а вовсе не «стремление к познанию истины», заставляла нас и глупить, и дерзить, и ругаться «в усмерть». И хватит об этом… Разговор с Иосифом Самуиловичем, не сумевшим закрепить за собой инициативу, как-то оборвался. И для остальных сидящих за столом вопрос о том, что же и о чем – если не о салатике! – думали Василий Васильевич и Иосиф Самуилович в те героические времена их молодости, когда они вместе боролись с косностью и невежеством тогдашних парткомов и потешались над бездарностью советских режиссеров, так и остался не проясненным. Но «природа не терпит пустоты», особенно в застольных беседах. И внимание Василия Васильевича, бывшего, безусловно, «несменяемым тамадой» этого стола, обратилось на Илью, столь удачно, как оказалось, «срезавшего» мечтательного идеалиста Мейтеса. И Василий Васильевич спросил: - А, кстати, Илья, что там в Интернете про курс лолларда пишут? - Да не смотрю я про это в Интернете!,- наигранно раскипятился Илья,- я про бензол, про нефть… - Ладно, кому другому заливай, - отрезал Василий Васильевич. И уже как-то просительно добавил: - Говори, не темни! Илья Стефанович оглядел всех внимательно, давая понять, что спорить он дальше не будет - мы на обеде, а не на совещании в кабинете - и правила обеденной церемонии вполне допускают признание в таких мелких грешках – лазить по Интернету для удовлетворения личного любопытства. Да и кто из здесь сидящих имеет право бросить в него камень за это? Все тем грешны! Выдержав паузу и овладев таким образом всеобщим вниманием, он как-то укрупнился, губы его утоньшились, взгляд стал жестким, «монокль» вокруг левого глаза расширился, и он начал: - Ты знаешь, Вася… Он как будто запнулся, давая время оценить серьезность своих намерений. И здесь эта подчеркнутая фамильярность имела совсем другой, чем у Иосифа Самуиловича, подтекст. Здесь он демонстрировал родственную близость, публично проявлял привычку разговаривать с шефом «накоротке». Это, конечно, свидетельствовало о его понимании особенностей «обеденной церемонии», но и, одновременно, напоминало всем остальным, что он, Илья, не такой как мы все, что он «и с Пушкиновым на дружеской ноге!». И Илья продолжил: - Я очень внимательно прочитал один перевод из Нью-Йоркского экономического еженедельника (слова «очень внимательно» употребляются Ильей в тех случаях, когда он хочет подчеркнуть серьезность своего отношения к предмету), и там ясно и толково объясняется, что лоллард – дутый, что война в Иранке негативно сказалась на экономике, и что вообще пора понять – эпоха лолларда на закате… Он замолчал, давая всем осознать, что вовсе не девки его интересуют в Интернете, а серьезный аналитический материал. Поняв, что действительно «зацепил» всеобщее внимание, Илья нарочито придирчиво занялся своими сосисками. Ничего другого он из мяса на обед не брал – в гигиеническом состоянии здешней кухни и кулинарных способностях девочек, там работающих, у Ильи были серьёзные – и, признаюсь, обоснованные! – сомнения. Но я, например, традиционно надеюсь на «авось», Василий Васильевич в выборе меню соотносится только с рекомендациями своего врача, а Иосиф Самуилович порой и не замечал, что было перед ним в тарелке, если в голове бродила какая-то интересная мысль. И только Илья никогда о гигиене не забывал и не пренебрегал ее рекомендациями – за своим здоровьем он следил, хотя постоянно на него и жаловался. Все так же молча продолжали жевательный процесс. Как реагировать на известие Ильи никто не знал. Только Иосиф Самуилович наклонился ко мне и тихонько, чтобы никто не слышал, сказал: - У классика нашей литературы, Михаила Евграфовича Салтыкова-Доброго, есть такая вещица – «Наши глуповские дела». Так там сказано: «И старый глуповец, и молодой равно не имеют намерения выразить что-либо особенное; и тот и другой горят лишь нетерпением набить чем бы то ни было те полчаса, которые, по заведенному обычаю, принято посвящать диалогам…». Не в бровь, а в глаз, не правда ли? И он продолжил лениво ковырять вилкой в тарелочке с пловом, изредка запивая кусочек проглоченного жира томатным соком… То, что Иосиф Самуилович чуть ли не наизусть знает все многотомное собрание сочинений М.Е.Салтыкова-Доброго, было общеизвестно. Так что цитату можно было не проверять. Молчание прервал сам Василий Васильевич, обращаясь к макушке своего двоюродного брата, склонившейся над сосиской, раскрывшейся как лернейская гидра (только о восьми, а не о девяти головах). Гидру из сосиски сделала специально для Ильи буфетчица Эммочка, крестообразно надрезав с обоих концов длинную и тонкую сосиску перед жаркой. Илья обращался к ней по-барски: «милочка» (что она принимала за изысканность ильевских манер) и иногда даже снисходил до какого-то подобия болтовни - но ничего более! - Ну, и что нам теперь делать, Илья?,- спросил Василий Васильевич, отставляя пластмассовую тарелку и извлекая из пачки очередную белую сигарету-соломинку. - А я откуда знаю?, - нарочито грубо ответил Илья, отрезая вихляющим пластмассовым ножом предпоследнюю шею мифического чудовища. – Ты у нас начальник, тебе и решать. Но я бы на твоем месте, - блеснув очками озорно сказал Илья, - часть зарплаты в сингапурских «азиатах» стал бы выдавать. Не на жизнь, а для «чулка». Вот завоюют нас синие узкоглазые, когда Кельцин Дурилы им отдаст, тогда умные-то люди и достанут эти самые чулки с «азиатами»… - Нет, погоди, Илья, - заинтересованно перебил его Василий Васильевич, глубоко затягиваясь, так что зеленый огонек кончика его тонюсенькой сигаретки пробежал от одной этой затяжки чуть ли не треть ее длины, - а ты представляешь, сколько мы на одной конвертации потеряем?.. - А ты не бойся, «мальчики» твои помогут, если ты их попросишь… «Мальчиками» у нас звались создатели и владельцы одного из самых элитарных консалтинговых агентств, которые начинали свое дело лет 10 назад с ремонта электрочайников. Познакомившийся с ними в ту пору Василий Васильевич использовал их фирмочку для некоторых своих деловых нужд, а потому был с ними накоротке и даже учил уму-разуму в бизнесе, да и в жизни. Теперь-то они и сами министров учат, но воспоминания остались у них от той поры теплые, и Василий Васильевич, бизнес которого с достигнутых ими высот они и в «мелкоскоп» бы не разглядели, по-прежнему имел у них титул «шефа», как они и обращались к нему «вне официоза». Напоминание о «мальчиках» явно не понравилось Василию Васильевичу: - До «мальчиков» теперь далеко… Да и опасно к ним даже ездить стало – глаз там лишних много,- задумчиво сказал он, размешивая в чашке с пакетиком чая «Липстмин» какую-то таблетку, заменявшую ему по совету врача сахар, и как-то тяжело взглянул на Илью. Илья сразу сообразил, что даже по либеральным правилам «обеденной церемонии» он «хватил лишку», тут же расправил губы и завел совсем другую свою пластинку: - А я что!.. Я – человек маленький, у меня мозгов – курам на смех. Не подумайте, что я на что-то намекаю политическое, над святым грешно смеяться, а нашего будущего вождя я и путным, и беспутным признавать буду, если он легитимным окажется…А тут, за обедом, я и глупость могу сказать, на то ты и начальник, что б меня поправлять. На том и разговор и обед закончились. - Ну, пошли! – уже переходя в режим «настоящего начальника» сказал Василий Васильевич, - хватит дурака валять! Работать нужно… И, смягчая переход, добавил: - Там Елена Никоновна кое-что мне притащила, разобраться нужно, да и раздать всем сестрам по серьгам. Сказал он это нарочито громко, чтобы слышали и Татьяна Борисовна с Еленой Петровной, но они пропустили это его сообщение мимо ушей и остались сидеть за соседним столиком, обсуждая, какое пирожное взять к чаю? Выбор сегодня был невелик – эклеры со сливочным кремом и корзиночки с безе. - С кремом полнит и витаминов там мало, - заявила Татьяна Борисовна. - А песочное тесто невкусное, - парировала Елена Петровна. Тут уже хмыкнул шеф, но повторять сказанное не стал, и прерывать их стремление достигнуть консенсуса по столь спорному кулинарному вопросу тоже не решился. Мы подошли к стойке, и, услышав от Эммочки, которая сегодня обслуживала клиентов, сколько каждый должен за обед ( с Василия Васильевича, например, причиталось шестьдесят девять рублей 87 копеек), выстроились в очередь, порядок в которой также был строго прописан в неписанном регламенте «обеденной церемонии»: Василий Васильевич и я (наша пара выполняла заключительное «па» церемонии: «дружба дружбой – а кошельки врозь»), далее – по старшинству - Иосиф Самуилович и Илья, а Бурый, как самый молодой, замыкал нашу группу. Наступает последний элемент церемонии. Василий Васильевич высыпает на стойку груду мелочи и начинает рассчитываться именно с копеек, отбирая из кучи нужные для набора 87 копеек монеты. Я замечаю, что в этой груде мелочи затерялась странная монета, и с этого момента пристально слежу за тем, как Василий Васильевич разбирает кучу. Делает он это сосредоточенно, что-то проговаривая себе под нос, в ходе отбора меняет свои решения и загоняет, например, уже лежащий справа от общей кучки полтинник обратно, заменяя его гривенниками, напряженно разыскивает в куче две копейки, которые по своей малости теряются в груде рублевиков. В это время замеченная мною монета привлекает и его внимание. Но я, по виду аверса, уже понял, что это «битый-перебитый» гривенник тридцатых годов прошлого века, а ему кажется, что это грязная копейка, «подсунутая» ему где-то на сдачу, и он решительно толкает ее пальцем в кучу «платежной» мелочи. Сердце мое обливается кровью - гривенник-то билонный, в нем одного только серебра не меньше, чем на червонец, а его нумизматическая ценность может оказаться и вовсе исключительной, но сказать об этом никак нельзя – будет нарушен порядок этого элемента обеденной церемонии. Вслед за уплывающим от меня раритетом он извлекает из кучи пятак, но, обнаружив там же более старый и замызганный, гонит назад блестящий и новый… Очередь спокойно ждет. Только Илья, понимая, что его черед платить настанет ещё не скоро, о чем-то шепчется и пересмеивается с Еленой Петровной, присев на краешек скамейки, где сидит Татьяна Борисовна, у которой рядом с чашкой чая уже открыто стоит рюмочка с какой-то чудной изумрудно-фиолетовой маслянистой жидкостью (дамский десерт не может выглядеть уныло!). - Василь Василич, отдайте это мне, - говорю я через пару минут предписанную церемонией фразу, поскольку, как всем это известно, я увлекаюсь нумизматикой и ищу среди куч мелочи редкие разновидности монет, - а я за Вас расплачусь с Эммочкой бумажками. Сегодня я это говорю особенно грустно и безнадежно, ибо понимаю, что через минуту «наркомовский раритет» может исчезнуть для меня навсегда. - Нет, Игорь Петрович, - столь же традиционно отвечает Василий Васильевич, продолжая сложные манипуляции по извлечению пятаков и копеек, - денежка счет любит, а горшки за собой каждый должен выносить сам! Он решительно подвинул по гладкой поверхности стойки груду монет (в основном грязноватых и тусклых) в сторону Эммочки, отсчитал семь червонцев, получил на сдачу новенький рубль, присоединил к оставшейся куче блестящей мелочи, сгреб ее в кошелек, и, не оглядываясь, решительно вышел из зала. Я тут же накрыл вспотевшей от волнения ладонью груду металлических кружков, которую Эмма не успела сбросить в тарелку с монетами, стоявшую под рукописным плакатиком «Кошке на молочко», и строго сказал: - Реквизировано инспекцией Наркомздрава – на монетах много грязи и вредных бактерий! Получите компенсацию – один рубль в денежных знаках, имеющих хождение по территории Рассейской Федерации! И мою, конечно, плату – сто десять рублей, можете даже и не считать… Эммочка улыбнулась, и ничего не ответив, обратилась к Иосифу Самуиловичу: - А с вас сколько? … Выйдя из лифта, в коридоре, Василий Васильевич уже по деловому бросает нам: - Прошу полчаса меня не беспокоить!- и скрывается за дверью собственного кабинета, имеющего отдельный выход в коридор. Мы переглядываемся, и каждый понимает, что настал момент священнодействия с конвертами. И что через полчаса нас начнут вызывать «для воздаяния». Дождались-таки!.. О процедуре воздаяния, эмоциях и ритуалах, ее сопровождающих, о тайных доктринах «справедливого вознаграждения», шутках шефа, предусмотрительности Ильи Стефановича, розыгрышах и оплошностях Елены Петровны, смущении Иосифа Самуиловича, а также о моем удовлетворении от результатов процедуры. Доходы умножай, гони от сердца лень И белу денежку бреги на черный день. В комнате ощущается невидимое напряжение, какое-то необъяснимое единение всех присутствующих, и даже Елена Никоновна, которая, казалось бы, лучше других знала, что сейчас будет происходить, вместе со всеми, забыв на время свои «дебеты» и «кредиты», «проводки» и «балансы», мысленно перебирала свои поступки за последний месяц. Каждый как будто настраивался на «самоисповедь» и даже более откровенно, чем если бы он стоял перед алтарем, перебирал день за днем и свои успехи, и прегрешения. Последних, разумеется, было больше, что огорчало, но зато первые были гораздо более яркими и значимыми. И, как правило, более видимыми. Счет тут был «истинно Гамбургским» - в исповедальне перед кающимся грешником стоит все-таки «внешний судья», тоже не ангел, хоть и «полномочный представитель неподкупного суда», и ему можно, рассказав правду, одну только правду и ничего, кроме правды, сообщить все же не всю правду. А вот перед собственной совестью это не проходит. Но в нашем случае эта «исповедь в чистилище» - перед собой на рабочем месте - ещё не была финалом. Самое «практически важное» происходило за дверью, в кабинете. А там, как и в исповедальне, перед тобой стоял «судья во плоти и крови». Да еще и без «высочайших полномочий» (правда, с абсолютной свободой воли, что для «судии» было, конечно, гораздо важнее). Да и не был кабинет исповедальней, никто не требовал там от тебя самобичевания. Скорее, наоборот – нужно было «показать товар лицом». Иными словами, там была игра, в которой нужно быть ловким, смелым, дерзким, изворотливым, хитрым, и даже коварным, чтобы получить лучший приз. И потому после фазы «самоисповеди» быстро наступала следующая – анализ своих шансов на выигрыш и выбор стратегии поведения в кабинете. И здесь важно было точно оценить не только себя, но и «партнера по игре». Что ему о тебе известно? Что будет учтено? Где ты «упустил», а где «прирастил» содержимое конверта, который будет тебе вручен в самое ближайшее время? Это никогда внятно не объяснялось и не обсуждалось ни в кабинете, ни, тем более, в разговорах «между собой». Ведь в денежных вопросах закон Горбоносова был применим не в меньшей степени, чем в физике – «Все изменения, в Натуре случающиеся, такого суть состояния, что ежели где чего убудет, то столько же в другом месте присовокупится». В переводе на нормальный человеческий язык это означало, что если из принесенного Бурым кейса в твой карман попадет сколько-то розовых бумажек, то ровно стольких же бумажек не досчитаются в своих карманах остальные сослуживцы. И каждый хотел, чтобы в его карман попало как можно больше, и вовсе не желал входить в положение владельцев иных карманов. Было это, правда, чревато тем, что обиженный сослуживец мог просто уволиться (до стадии крепостного права социальная организация «Ипотеха» не доходила никогда), и тогда в следующий раз Бурый принес бы кейс, содержимое которого отличается от возможного при нынешнем раскладе. И отличается именно на величину трудового вклада ушедшего. Но всегда кажется, что этот вклад не столь велик, что в своей каждодневной работе «отряд не заметит потери бойца», а от делимого в кабинете пирога после уменьшения числа «едоков» тебе достанется больший кусок. Вот почему такие проблемы до поры до времени редко обсуждались «между собой». А допустить такую бестактность по отношению к шефу – спросить его прямо о принципах «разделки пирога» - просто не могло прийти в голову. Охотников до харакири среди нас не было. К тому же каждому, кто проработал в «Ипотехе» хотя бы неделю, было и так ясно, что получает он здесь ежемесячно не зарплату, а воздаяние. За труды и грехи. По воле «Самого Справедливого Отеческого Начальника». И о чем было его спрашивать? Но со временем пришла-таки пора, когда и закон Горбоносова, и воля Отеческого Начальника перестали всем казаться незыблемыми основаниями функционирования нашей финансовой кухни. Окормляемые дети выросли из коротких штанишек, и поумнели, хотя и не сильно, и в разной степени… И тинейджерское понимание справедливости у некоторых из них уже не могло замыкаться только в собственной душе. Возникло новое «социальное явление» - секретные «междусобойчики». Наши «либералы» (сознательные и стихийные поклонники либеральных ценностей западной модели рыночных отношений) считали, что уже было пора и весьма уместно установить четкую и стабильную зарплату. Конечно, с системой определенных коэффициентов, как поощряющих усердие и успех (заключение выгодного или нужного договора, построение перспективной схемы, улаживание конфликта, грозящего убытками, успешный маркетинг), так и карающих за нерадение - срыв переговоров, допущение ошибки, грозящей убытками, да просто за лень, в конце концов! Звучали и радикальные идеи, среди которых самым «крамольным» было предложение определить долю каждого в общем доходе. Но такое озвучивалось редко, только в каких-то критических, «революционных ситуациях». Ведь «доля» разрушает патриархальное устройство быстрее, чем сернистая нефть катализатор. Доля – это осознанная свобода. А кто может дать свободу? Её не получают, её либо берут, либо рождаются свободными. А «дарованная сверху» она только тогда обретает истинное свое значение, когда «одариваемый» её действительно берет. Так было и в самом «громком» в истории нашей страны случае – «дарованная» при отмене крепостного права свобода стала «настоящей» только много десятилетий спустя, когда ее действительно взяли те лапотные мужики, которые формально давно уже были свободными. Другой разговор, как они это сделали и почему не смогли ее удержать… Эта историческая подоплека объясняет то, что к «свободнорожденным» мы явно не относились, а особого желания «взять свободу» тоже не проявлялось. У одних потому, что, будучи всю сознательную жизнь «под кем-то», «осознанной необходимости свободы» они просто не ощущали, у других – потому, что они знали историю и ещё хорошо помнили, к чему привела эта вольность «лапотных мужиков» в реальной действительности. Были и причины ментально-психологические. Возможность думать, что некий «внешний злодей» мешает тебе самому определять свою жизнь настолько сладостна, настолько облегчает душевную ношу ответственности, что добровольно отказаться от этого блага рабства может только извращенец или сумасшедший. И события «большой Истории» последнего времени также свидетельствуют об этом. Ведь в 91 году свобода, буквально упавшая на нас, оказалась не удобной шляпой, комфортно укрывающей голову и предохраняющую от «идеологической просветки тоталитарного режима», а тяжелой каской (или шлемом), нужной на фронте борьбы «всех со всеми» за лакомый кусок оказавшегося «бесхозным» государственного пирога. Тот, кто это понял, сумел использовать каску по назначению – предохранить свою башку от ударов и конкурентов, и ослабшего, но все ещё опасного государства. А у большинства эта «халявная панама» оставила на голове след в виде солидного синяка, а, в отдельных случаях, и легкого сотрясения мозга. Полнота оказавшейся тогда у нас свободы значительно превышала возможности наших рук для ее удержания и явно не соответствовала тем мизерным усилиям, которые мы приложили для овладения ею. Даже самые закоренелые атеисты не могут не признать – это КЕМ-то дарованная свобода. И дар этот, в первый момент показавшийся божественным, очень быстро стал казаться уже «данайским», этаким «Троянским конем» XX века. В качестве «современных данайцев» особенно ушибленные стали подозревать то происки «западников», то «евруев», а то и вовсе инопланетян, но в любом случае тех, кто добра Рассее не желает. Так что о «доле» поминали редко, а вот о «конкретных контрактах» мечтали многие. Но мечты эти оставались тайными (а потому и сладостными!) и не шли дальше «междусобойчиков», порождаемых какими-то явными (с точки зрения обсуждавших столь крамольные вопросы собеседников) нарушениями их «прав». Причем «междусобойчиков» всегда только «с глазу на глаз» - мне никогда не доводилось обсуждать что-либо подобное втроем. А представить себе посвященное этому совещание в кабинете у шефа было просто невозможно. Вот и сейчас каждый был «наедине с собой», каждый – «сам за себя», и единственное преимущество Елены Никоновны было в том, что она хотя бы приблизительно представляла себе пышность того пирога, который кромсал сейчас на предназначенные нам ломти Василий Васильевич за плотно закрытой дверью своего кабинета. Разумеется, даже она не знала толщины этого пирога точно. Даже она не представляла всех дырочек, сквозь которые утекали денежные потоки из сосуда, наполненного в результате ее визита в «дружественный банк», не ведала обо всех «нужных людях», не знала – да и не должна была знать! – всех, кто работал на интересы «Ипотеха». Знающий такие детали вполне «законно» мог претендовать на долю, т.е. на звание совладельца, а не простого, пусть и самого высокооплачиваемого, сотрудника. Ведь многие из тех, чьи инициалы или прозвища были нацарапаны на лежавшем сейчас перед шефом листком, порой сами даже не подозревали о существовании фирмы «Ипотех»! Но, живя своей жизнью, они время от времени делали нечто, что было необходимо шефу. Нечто такое, что помогало ему ежедневно, ежесекундно удерживать в своих руках штурвал того «реально-виртуального» корабля, который мы, бесшабашная его команда, называли порой «Ну, потеха!». А двигать его в выбранном направлении силой своей воли было отнюдь не потехой, а тяжким трудом. Правда, эта воля, по убеждению Василия Васильевича, вовсе не была «свободной». Ею распоряжался ТОТ, о Смысле и Помыслах которого даже и думать-то всуе было несообразно… Наконец, раздался характерный щелчок и микрофоны селекторной связи, стоявшие на каждом столе, ожили. Послышался характерный треск, который мгновенно зафиксировало обостренное сознание всех, находившихся в комнате, и голос шефа произнес: - Илья, заходи! Илья Стефанович предусмотрительно закрыл окно сайта «Досуг» на своем компьютере (что бы не смущать Лидию Федотовну, могущую случайно пройти мимо этого притягательного для взора экрана в его отсутствие) и надел пиджак. Пиджак висел на спинке кресла и «как бы по счастливому стечению обстоятельств» прогревался уже третий час тепловым вентилятором «Ветерок» Подольного вентилляторного завода. (Помните – «Нам пора и Вам пора с вентилляторным заводом заключать договора. Если теплый воздух дуть – в Ваш карман не заглянуть!»?). Действовал Илья, разумеется, грамотно, «как учили» - для подобных визитов в кабинет была предписана особая форма одежды – мальчики в пиджаках, а девочки – в жакетках. А то ведь куда конверт девать? Спокойно, достойно, ни на кого не глядя, Илья Стефанович прошел в кабинет шефа. Внешне в комнате ничего не изменилось, но опытный взгляд мог бы заметить, что только Иосиф Самуилович действительно был увлечен чтением какой-то книги по теории гетерогенного катализа, занятия же остальных относились к понятию «работа» не больше, чем занятия Марии Ладыниной и Владимира Зельдина к свиноводству и овцеводству. Все, как и в фильме, играли свои роли и явно при этом переигрывали. Я закончил набирать проект текста нашего договора с Амгарском, взял с тумбочки «черновиков» лист бумаги и сунул его в принтер. У нас несколько принтеров, но для черновиков используется старый, игольчатый. Я нажал клавишу «ввод», принтер затрещал, но быстро захлебнулся. «Опять заело»,- с досадой подумал я и стал извлекать застрявший листок. Вырвав его из-под валика принтера, я машинально его перевернул, пробежал глазами текст, написанный от руки, и… - Кто положил сюда эту бумажку?,- спросил я громко, обращаясь ко всем. В стоявшей в комнате тишине вопрос прозвучал грозно, все подняли на меня головы и, не вставая с места, стали всматриваться в злополучный листок. Через полминуты напряженного разглядывания заговорила Лидия Федотовна: - Да это черновики, которые остались от вчерашнего разговора с этим фланелевым щёголем. Когда он вышел от шефа, я спросила его телефон, а он стал рисовать, как к ним проехать на машине. Мне это и не надо было вовсе! А он все чиркает чего-то… Минут пять бумагу марал! Два листа испачкал! Вон, я отсюда вижу – схема там проезда… А что случилось, Игорь Петрович? Чего это вы голос повышаете? - Да нет, ничего, просто не нужно сюда рваные листы класть – в принтере они застревают,- ответил я. - Вечно вам не угодишь – то «Где бумага для черновиков?», то – «Зачем кладете?». И голос повышать не нужно! – уколола меня Лидия Федотовна и снова углубилась в свою тетрадь. И все остальные опустили глаза. А на листке, под какой-то дорожной схемой, написанный тем же почерком, шел какой-то корявый, прихотливо разбросанный по листку, с завитками и перечеркиваниями, образующими непонятную фигуру, но вполне «читабельный» текст, начинавшийся словами: «Проект договора на поставку 350 тонн ММА от фирмы «Химтранзит» на Амгарский нефтеперерабатывающий завод…». «Химтранзит» - это мы. Писал – «фланелевый пиджак»! Вчера!! Морок?… Что-то с глазами – слипаются. И под ложечкой сосет… Я сел на место и на минуту отключился от реальности. Открыв глаза, снова посмотрел на листок – под транспортной схемой был нарисован мой портрет. Я узнал манеру Елены Петровны – она иногда баловала нас шаржами. Её шутка и мой морок! Можно забыть… Через пять минут дверь в кабинет шефа распахнулась, и вышел Илья с каменным лицом. А из динамика уже летело: - Татьяна! Татьяна Борисовна передернула плечами, окутанными каким-то немыслимо огромным и пушистым платком цвета испуганной мыши, как будто зябко поеживаясь, и, поправив какую-то только одной ей видимую складку на юбке, одернула жакетку и уже уверенно зацокала каблучками по направлению к кабинету. Очень это было похоже на студийную учебную импровизацию в театральном Училище имени А.В.Луначарского времен учебы в нем Гусиевича на тему: «В приемной у зубного врача». Хотя за легким Татьяниным испугом и недоумением после того, как она услышала свое имя вторым, после Ильи, которое динамик назвал голосом шефа, стояла одна наша ипотеховская примета. Считалось (совершенно, впрочем, безосновательно!), что толщина получаемого конверта обратно пропорциональна порядковому номеру вызываемого. И услышать свое имя сразу вслед за Ильей – большая удача! Через те же пять минут, однако, от «синдрома зубной боли» у Татьяны не осталось и следа – она буквально выпорхнула из кабинета и по ее виду было легко догадаться, что «доктор добрый, больно не сделает» и что итогом своего визита она совершенно довольна. Дверь захлопнулась, а сквозь хрипы и трески динамика послышалось: - Трудолюбивая! Шеф явно был в хорошем настроении и играл с нами в свою любимую игру – придумывал и тут же награждал всякого, кто «здесь и сейчас» подворачивался ему под руку, каким-то прозвищем, соответствовавшим, по его мнению, этой своей мгновенной оценке. Оценка могла быть прямой, например он мог спросить по селектору: - А где Ученый? И ни у кого не вызывало сомнений то, что ему требуется Иосиф Самуилович. Или насмешливо-ироничной, но очень конкретной: - А что, Обидчивый опять курит свою трубку? И, понятно, откликнуться должен был я. Но иногда, как это было и сейчас, он загадывал нам загадку. Кого он имел в виду – Лидию Федотовну, трудолюбие которой вошло у нас в поговорку, или Елену Петровну, по отношению которой это звучало бы лёгкой иронией, или даже Елену Никоновну, справедливо соперничавшую с Лидией Федотовной и не менее ее достойную лавров такой оценки за свое отношение к работе? Почти физически чувствовалось, как он улыбался, сидя за своим огромным письменным столом в кабинете, держа палец на той строчке своей бумажки, где были зафиксированы истинные инициалы сегодняшней «трудолюбивой». И улыбка его была вызвана тем, что мысленно он представлял себе те взгляды, которыми обменивались «попавшие под подозрение» дамы, не зная, как отреагировать на столь двусмысленный комплимент и, в тоже время, боясь упустить момент страстно желанной встречи с ним. Достаточно насладившись этой картиной, он повторил в микрофон: - Я же позвал – «Трудолюбивая»! Чем там так занята Елена Петровна, что не слышит моего вызова? Елена Петровна, бросив торжествующий взгляд в сторону Лидии Федотовны (иронию шефу она прощала легко, а вот за то, что опередила в данном случае Лидию Федотовну, была ему по-женски благодарна), смущенно улыбнулась и, уже вставая, сказала в коробочку: - Ну, Вы, Василь Василич, задачки задаете! Не легче, чем моей бестолочи по арифметике! В этот момент руки ее судорожно хлопали по поверхности стола в поисках какой-нибудь непрозрачной папки. Она, как всегда, забыла о предписанной на сегодня форме одежды, и на ней была изящная риновая атласная кофточка, расписанная крупными зелеными и неоловыми цветами с резными фиолетовыми листьями, украшенная какими-то то ли рюшечками, то ли фестончиками с массой пуговиц, но… без единого кармана! Когда какая-то ядовито-лимонная папка все-таки нашлась, Елена Петровна быстро пошла к двери кабинета, но не упустила при этом возможности остановиться на секунду перед зеркалом, подвести губы любимой помадой Signal red, и поправить «не так» лежавший локон, сбившийся при ее лихорадочных поисках «укрытия для конверта». Не было ее довольно долго. Ясно, что причина задержки – не в сложности пересчитывания розовых бумажек. Не могло их быть столько, чтобы пересчет занял столько времени! Тем более, после ее математической тренировки на экзерсисах сына-бестолочи. Скорее всего, когда шеф сделал ей выговор за нарушение формы одежды (а в том, что он это сделал, я не сомневаюсь ни секунды), она что-то, от волнения не вполне политкорректное, ответила ему, чем спровоцировала его отеческий монолог на темы нравственности, перешедший в разговор «за жизнь». А Елена Петровна умела и любила поговорить с шефом на подобные темы. Я уже начал волноваться – мне ведь ещё за билетом в Амгарск бежать, а перед этим деньги командировочные у Елены Никоновны получать (а это отдельная и, порой, не быстрая техническая процедура!), но тут, наконец, дверь кабинета щёлкнула, и Елена Петровна, прижимая к груди апельсиновую папку, со слегка мечтательным выражением на лице, вышла из кабинета. Было понятно, что и она, как и Татьяна Борисовна, в данный момент думает о чем-то весьма приятном, но страшно далеком от химического маркетинга. А из динамика раздалось: - Игорь Петрович! Я вошел в кабинет и направился к шефу, который стоял у своего рабочего стола. - Игорь Петрович, дверь! – с легкой укоризной сказал Василий Васильевич. Я понял свою оплошность и мне стало стыдно за свою почти неприличную торопливость. Я остановился, вернулся к двери и мягко закрыл ее «до щелчка». Передача конверта во всех случаях требует полной конфиденциальности и психологической атмосферы приватности. И закрытая на замок дверь – непременное и элементарное условие таких операций. Бумажка с инициалами и цифрами лежала перед Василием Васильевичем на столе перевернутой, так, чтобы не было видно вошедшему сотруднику того, что там написано. Думаю, что это был осознанный шефом элемент безопасности ритуала – знал он зоркость взгляда «своих орлов» и не хотел давать им повода для «досужих размышлений». Он открыл верхний ящик стола (только теперь, когда дверь была плотно закрыта!), и, не глядя, сунул в него руку («куски пирога» лежали там уже «нарезанными» и в том порядке, в котором он нас вызывал), достал конверт и положил его на полированную поверхность. Это ещё одно правило – если есть возможность – не передавать конверта из рук в руки. Сначала один кладет, а потом другой – берет. Обычно это делается молча, но тут был особый случай, а потому я услышал традиционное и почти сакральное: - Игорь Петрович! Пересчитайте!... Я взял конверт в руки (ну, теперь «доходы умножай!» - мелькнуло в голове) и мгновенно оценил приятно удивившую меня его толщину. Мое удивление, конечно, не укрылось от внимания шефа, который пристально следил за мной и как раз и ожидал от меня такой реакции. Он не стал ждать моего вопроса, а доверительно сказал: - Заплатили-таки старый должок из Старого Новгорода. Они нам ещё за сажу были должны, а теперь снова захотели вагончик, вот и расплатились, - разъяснил он, отвечая на мое невысказанное недоумение о причинах пухлости конверта. - Но ведь у нас сажи больше нет, мы уже полгода ею не занимаемся, - удивился я. - Так это мы не занимаемся, в Старом Новгороде же ничего об этом не знают. А Лидия Федотовна, когда они ей позвонили, догадалась не огорчать их отказом. Она обещала им подумать, и сказала, что на результаты этих ее раздумий наверняка окажет влияние погашение со стороны новгославцев старого должка, - с улыбкой продолжил Василий Васильевич свое пояснение, в котором одновременно ощущались и его удовольствие от того, что я приятно удивлен его сегодняшней щедростью, и ненавязчивое поучение на живом примере как нужно правильно работать с клиентами, да и гордость за грамотно проводимую им самим кадровую политику – вон какие толковые сотрудники у него работают! (Очень он гордился тем, что никогда никого не увольнял – однажды пришедший и принятый им человек становился членом семьи. А можно ли разрушить семью без позора для ее патриарха?!) - А обещать – не значит жениться, как любит говорить Илья каждой своей пассии при расставании. Не правда ли, Игорь Петрович? – закончил свои объяснения шеф, и, посерьезнев, напомнил мне: - Так пересчитайте же, Игорь Петрович! Я вытащил пачку из конверта и начал пересчитывать купюры. Все они были новенькими, из одной банковской упаковки, и даже номера на них уменьшались на единицу при переходе от одной купюры к другой. (Надо будет при случае обратить его внимание на этот прокол – платеж где-то в «приличном магазине» или в банковской кассе, а, тем более, расчет с каким-либо малознакомым тебе «физическим лицом» такими деньгами мог вызвать у получателя денег недоумение, совершенно ненужное и даже чреватое непредсказуемыми последствиями… Но, разумеется, сейчас не время обращать его внимание на такие «мелочи» - он мог неправильно понять мотивы моего замечания и приписать их «привередливости». Это мне сейчас надо?) Тем временем пересчет шел своим ходом и шеф принимал в нем самое непосредственное участие - его губы беззвучно повторяли за мной количественные числительные: - семь, восемь девять, десять, - внятно произносил я. - семь, восемь, девять, десять, - почти беззвучным эхом повторяли его губы. Я остановился и изумленно взглянул на него, как бы показывая, что, по моим представлениям, счету пора бы и заканчиваться, а, тем не менее, у меня в руках еще оставалась приличная пачка бумажек! - Считайте, считайте, Игорь Петрович!, - нетерпеливо поторопил меня шеф, показывая тем самым, что он вовсе не ошибся, положив столько розовых бумажек в конверт, - у меня ещё и другие сотрудники зарплату ждут, да и вам пора за билетом бежать! И, ободренный этим комментарием, я торопливо продолжил счет: - … - …дцать!!!, - восторженно закончил я. - …дцать… механически повторили его губы. - Всё правильно, Игорь Петрович. Вы не ошиблись, а я вас не обманул, - подвел итоги этой расчетной операции шеф. Он помолчал, глядя мне в глаза, и, видимо удовлетворенный увиденным, задал последний ритуальный вопрос: - Ну, вы довольны? - Спасибо, Василь Василич!, - с искренней благодарностью ответил я. - То-то же! Говорил я Вам сегодня утром, что будете благодарить меня после обеда! У меня ведь как? Целый месяц зудёж и пилёжка, вредность и глупость от меня всякая, а как день зарплаты настает – все благодарят. Ну, что говорить! Здесь – не обманывают. А вот съездите хорошо в Амгарск – то ли ещё будет! Ладно, идите… И, уже в спину мне, добавил: - И позовите Иосифа Самуиловича, я обещал его пораньше отпустить, что-то подустал он, да вот закрутился, забыл… А нужно старика жалеть! Конверт уже лежал в моем кармане, и я в очередной раз убедился в справедливости «расхожих выражений». Сейчас на примере банальности «Своя ноша не тянет». Я вошел в комнату и сказал в сторону стола, стоявшего к двери ближе всех: - Иосиф Самуилович, к шефу! Дверь в кабинет я за собой оставил открытой - Иосиф Самуилович, бывало, порой не справлялся с технологией ее открытия и застревал на пороге кабинета, вызывая раздражение шефа своей «технической безграмотностью». Иосиф Самуилович вздрогнул, отложил книжку о катализе, виновато посмотрел по сторонам, как будто испугавшись, что окружающие застали его за каким-то неприличным занятием, потом встал, неуклюже натянул пиджак, к его счастью нагретый его собственной спиной на уровне внутреннего кармана за время изучения «крамольной» книги (не любил он носить пиджак, но помнил о форме одежды и почти никогда не нарушал ее), и прошёл в кабинет, не задумываясь о механике замка его двери… О получении командировочных, приобретении авиабилета в Амгарск, начале истории винтика от очков, а также о традиционном напутствии шефа отбывающему в командировку. Рысцой поплелся смирный мой пегас; Друзья, пою простые приключенья… Дальше все закрутилось колесом. Прежде всего, я получил командировочные. А это у нас совсем не простая операция! Конечно, когда речь идет о простой поездке (да хоть и полете!) для каких-нибудь «обсуждений» или даже «согласований» в пределах пары часов дороги, деньги Елена Никоновна выдает просто из коробочки, лежащей в ящике ее рабочего стола: быстро и удобно. Но вот когда командировка предполагает ещё и вручение конвертов… Да еще при тех цифрах, которые я сегодня согласовал с шефом!.. Где «физически» расположена «черная касса», знают только те, кто «по долгу службы» с нею связан. Даже «волчары», которые используют ее содержимое для согласованных с шефом расходов практически постоянно, могут только догадываться об этом! А процедура ее вскрытия незамысловата: сказал Елене Никоновне нужную тебе цифру, она проверила точность твоей памяти в коротком разговоре с шефом – подожди. Елена Никоновна выходит из комнаты и через 10 – 15 минут возвращается. Молча кивает тебе, и ты подходишь к ее столу. - Пересчитайте, Игорь Петрович,- тихо говорит она сакраментальную фразу. И ты начинаешь счет, прикрывая корпусом производящие операцию руки. Но это тоже ритуальное действие – на тебя не только никто не обращает внимания, но, скорее, все специально стараются даже не смотреть в твою сторону – как говорится, «меньше знать – крепче спать»! А в присутствии «чужих» такие операции вообще не производятся и бывает, что процесс выдачи командировочных затягивается на полдня. Вот и маешься, пока случайный гость не выпьет предложенную ему чашку кофе, не просмотрит все подготовленные для него бумаги, и даже не обсудит с Лидией Федотовной (если гость «солидного возраста», или Еленой Петровной (если ему «до сорока») какие-нибудь ностальгические воспоминания о «чудесном голосе Муслима Нагоняева» или не поговорит об очередном хите «очаровашки из «Ласкового Июня». Но вот все деньги у меня на руках и я бегу в «кассу «Аэроэскадры». Конечно, теперь это уже только условное понятие – в кассе продают билеты десятков авиакомпаний, среди которых «Аэроэскадра» - далеко не самая важная, но по-прежнему «самая привычная» и ставшая именем нарицательным для любой авиакомпании. Касса находится в нашем же здании двумя этажами ниже. Так что не приходится одеваться и испытывать на себе все коварные шутки сегодняшнего мороза. В кассе меня уже знают (не просто постоянный, а почти «штатный клиент»). И процедура идет упрощенная. - Куда летим, Игорь Петрович?,- спрашивает меня кассирша, даже не требуя паспорта – мои «реквизиты» давно сидят в ее компьютере в папке «VIP-клиенты». - В Амгарск, Клавдия Свиридовна! - Когда? - Завтра! - Как всегда – лучше с утра и из «Домопапова»? - Конечно, Клавдия Свиридовна, в моем возрасте привычек не меняют. - Ой ли, Игорь Петрович?,- лукаво говорит она, - а кто в прошлом году никуда, кроме Волглого и не летал? - Привычки привычками, а мы люди подневольные, - ей в тон отвечал я, – скажет шеф в Волглый – летим в Волглый, а скажет – в Сингапур, полетим и в Сингапур!… Только что-то мало надежды на такую его милость. Старинный, ещё игольчатый принтер кассового компьютера долго трещит и вибрирует так, что отдается в зубах, если не убрать руки с кассового прилавка. Тут у Клавдии Свиридовны зазвонил телефон. Она взяла трубку: -Алло? Да! Да, я, Мефодий Филиппович! Про кого? Хорошо, Мефодий Филиппович! Конечно, Мефодий Филиппович! Обижаете, Мефодий Филиппович – не первый день здесь сижу, понимаю!... Но я не обратил никакого внимания на эту ее трескотню по телефону, поскольку именно в этот момент (вероятно, от дурацкой вибрации игольчатого принтера), мои очки, которые я держал в руках, вдруг упали на пол! Ситуация, конечно, банальная, но я и «пою простые приключенья». Одна дужка осталась в сжимавших ее моих пальцах, а оправа со второй дужкой, ударившись о плинтус кассовой стойки, отскочила под ноги стоявшему за мной, (судя по бэджику, пришпиленному к лацкану его пиджака), представителю фирмы «Кондом и сыновья». Представитель вздрогнул, но удержался в исходном положении и не сделал убийственного для очков шага. Я бросился на выручку своим линзам и инцидент был исчерпан. Но винтик от дужки я – увы! – потерял. Хорошо, что дома у меня были запасные очки, а до конца рабочего дня времени оставалось уже совсем мало. Наконец, билет готов, деньги с неизменно прилагаемой шоколадкой перекочевывают сквозь окошечко в руки Клавдии Свиридовны, а билет – в мои, и, напутствуемый в спину традиционным: «Летите голубем, а прилетайте соколом!», я возвращаюсь «в контору» за бумагами: подготовленными и отпечатанными проектами Договора о поставках, Графиком платежей, Паспортом качества продукта, Справкой о присвоении нам ИНН и ещё кучей документов, которые заботливая Елена Никоновна уже сложила в отдельный файл. Я вбежал в комнату за две минуты до конца рабочего дня. Все уже сидели за столами, поглядывая то на ручные, то на большие настенные часы и с нетерпением ожидали, когда из динамиков «оперативной связи» раздастся столь желанная сейчас команда: - Все по домам! Мое появление вызывает легкую досаду. Понятно почему! Ведь у всех на руках (ну, конечно, не буквально – в руках такие вещи долго не держат – в кошельках, карманах, сумках) полученная сегодня «зарплата». И все предвкушают, говоря строгим юридическим языком, начало процесса «распоряжения полученными средствами», а теперь придется подождать, пока шеф не совершит обряда моего напутствия. Я сочувственно оглядел коллектив, решительно подошел к двери кабинета, нажал кнопку, и спросил: - Можно, Василь Василич? Замок двери щелкнул, и я услышал: - Заходите, Игорь Петрович! Сегодня и сам шеф куда-то спешил. «А вдруг и он, как и все мы, тоже ждал этого дня и теперь тоже спешит «распорядиться зарплатой»?», - вдруг пронзила меня нелепая догадка. Не знаю, настолько ли его божественная ипостась вочеловечилась, чтобы моя догадка имела под собой хоть какие-то основания, но процедура напутствия сегодня была сведена к минимуму. Он перевернул и отложил в сторону столь многострадальный за сегодняшний день листок с «явками и паролями» (не все, значит, сегодня «отоварились» и завтра у Елены Петровны будет работа по обеспечению ароматным кофе каких-то «важных гостей»), взглянул на меня, на папку с бумагами, которые я принес ему «для ознакомления» и сказал: - Вы мальчик большой. Что я буду у вас в бумагах орфографию править! Сами написали, сами и зеленейте, если где ошиблись! Билеты взяли? На завтра? Ну, и в добрый путь, удачи вам! Он вышел из-за стола, сам прошел разделяющее нас расстояние, крепко пожал мне руку, ещё раз пристально глянул в глаза, и решительно выпроводил из кабинета: - Идите! Уже перед дверью я услышал: - И не забудьте позвонить мне, когда прилетите! Я же волноваться буду!.., - это он сказал с искренней теплотой и озабоченностью. А потом, уже с металлом в голосе, в микрофон: - Все по домам! Когда я открыл изнутри дверь кабинета, выходная дверь из комнаты уже почти закрылась, и в оставшуюся щелку в коридор я успел увидеть только опушку дубленки Елены Петровны, которая убегала последней, видимо, на минутку задержавшись у зеркала, висящего рядом с выходной дверью, чтобы поправить линию губ своей любимой помадой Seaside rose. (Не вполне, кстати, соответствующей, как мне кажется, сезону …) Об ужении рыбы и его связи с семейными проблемами, птичьем ресторане, проблемах зимней моды и коварстве Госгидромета, архитектурных стилях, а также о антитеррористических проблемах городского хозяйства. Пора домой! Не опоздать бы мне, Не заперты ль ворота на запор? И огонек мерцает ли в окне, Маня к себе усталый, грустный взор? - Я вам говорю, мороз будет таким, что лед и снег не помешают хорошую сытую щуку по её желудку за 10 метров безлунной ночью увидеть!- сообщил я свое мнение о предстоящей погоде Борису, нашему рыбаку-секьюрити, когда он спросил меня на выходе о том, что же пишут о погоде в Интернете. - Жалко, что меня не будет, когда вы вернетесь с рыбалки и будете хвастать, как эта самая щука, когда вы за жабры вытащили ее из лунки, сказала вам человеческим голосом: «Борис, ты не прав!», - добавил я. - А почему? - спросил он. - Да вот, улетаю завтра в командировку, - ответил я не уточняя – куда. Такие «уточнения» считались у нас «утечкой информации» и не поощрялись шефом. Да я уже и привык не болтать лишнего. А «рыбная тема» была у нас с Борисом постоянной. Дело в том, что он, как я уже упоминал, работал в режиме «сутки-трое» и в эти «трое» одни – отсыпался, а двое проводил где-нибудь на подмоковном озерце или речушке – и себе доставлял удовольствие, и жену радовал экономией семейного бюджета по статье «продукты питания», отчитываясь перед ней за свои добровольные «командировки» пойманными окунями, красноперками и прочими представителями рыбного племени, ничуть не смущаясь тем, что почти все они были персонажами из «Зелёной книги рыб Моковской области». Правда, жена его, в минуты раздражения и выяснения отношений, порой со злобой говаривала, что эта «экономия» на «продуктах питания» сильно перекрывается увеличением затрат по статье «командировочные и прочие расходы», напирая особенно на «прочие». Но он в таких случаях тут же переходил в контрнаступление, требуя раскрытия секретной методики подсчета «этих самых прочих расходов» и экономического обоснования появления на вешалке в прихожей новой синтетической шубки «под шемшелей», поскольку в платяном шкафу висела ещё вполне приличная, на его взгляд, точно такая же, только «под бобра». Полу-знакомые люди достаточно легко обмениваются своими семейными секретами, справедливо полагая, что «ворон ворону глаз не выклюет», а «счастливых семей», как их понимает князь Лев Николаевич Крупный, просто не бывает. Поговорку о взаимоотношениях врановых я в последнее время мысленно связываю с одной сценкой, которую наблюдал прошлым летом. Дело было возле рынка. Я сидел в нашей «Шмиве» с Джимом и ожидал, пока Нателла купит необходимые нам на даче огурцы ( Наши грядки в том году ломились от кабачков, а вот огурцы не уродились). На тротуаре стояло пластиковое инженерное сооружение гигиеничного белого цвета с неоловой дверью, обеспечивающее действительно уединенное «облегчение» всего за червонец. Летняя жара делает излишней электропроводку для питания системы обеспечения ее непрозрачности, так что будка стояла очень удобно – рядом с лотками, где молоденькие узбечки из Намангана целый день торгуют сладкой черешней. Рядом с кабинкой, сидя на складном стульчике, читала газету то ли владелица, то ли ее хорошая знакомая (такие «хлебные места» незнакомые получить не могут просто «по определению») – «бизнес-вумен» приличествующего этой работе преклонного возраста. К кабинке подошла одна из продавщиц, которая годилась ей не то что в дочки – в правнучки! Одной рукой девчонка потянула ручку двери, а другую, с зажатым в кулачке червонцем, протянула «бизнес-вумен». Та глянула на худенькую фигурку «товарища по цеху» в чуть грязноватом риновом фартуке (обе ведь были торговками!) и, ленясь оторваться от стула, снисходительно сказала: - Ну, ладно…, - давая понять, что «со своих» она за облегчение денег не берет. Однако у девчонки была «собственная гордость» - она успешно («как взрослая!») торговала с утра и осознавала себя «обеспеченной женщиной». Поэтому, отпустив ручку кабинки, она сделала шаг к хозяйке заведения и с вызовом произнесла: - Да ладно!, - столь же ясно и однозначно отказываясь от «блата». Забавным было то, что обе не понимали мотивов поведения друг друга. Старуха оказывала ей любезность именно как торговке, а девчонка отказывалась от оскорбительной льготы (бесплатно, согласно вывешенному на кабинке объявлению, в нее могли попасть только дети и Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» не менее чем второй степени). Почему-то именно эта идиллическая картинка всякий раз всплывает в моей памяти, когда я оказывался в ситуации общения с малознакомыми, но дружественно настроенными ко мне людьми. Кстати, я так и не знаю, чем она завершилась – в тот момент Нателла как раз подходила к машине с сумкой, из которой над грудой кабачков торчали ещё и две колбасные палки, не произраставшие на наших дачных грядках, а потому всегда желанные, и я отвлекся от судьбы помятого червонца… Услышав от охранника слово «бобр», я напомнил ему с детства знакомый пассаж из знаменитой поэмы Николая Нелакова «Когда по росе выть хорошо?..»: Бобра не скроет толстый лёд, Глазастый всяк его найдет! И средь крестьянского добра Тулуп из зимнего бобра - Обыкновеннейшая вещь… Очень он меня благодарил за эту цитату из классика, которую решил использовать при очередном обсуждении исполнения своего семейного бюджета. - И ведь нам, «хрестьянам-рассеянам», и вправду бобр приличнее, чем заморские «шинеля из шемшелей»! Пусть подумает об этом! – хмыкнул он и подал мне журнал и авторучку. Я, исполняя дурацкий пустой ритуал, которого избежал утром по причине ранней явки Ильи, механически расписался в его «вахтенном журнале» в том, что помещение под охрану сдал, а он ключи от меня принял и сунул авторучку как раз в тот карман, где лежали «сданные ключи». Борис улыбнулся и сказал: - А ручку вы верните – не моя она, казенная, Мефодий Филиппович под расписку в ведомости выдал. Я, конечно, вернул этот «служебный инструмент охранного ведомства» ее «эксплуататору». Всё-таки дичь бюрократическая – копеечные предметы ставить на бухгалтерский учет! Да одной бумаги для учета разных авторучек, дыроколов и степплеров затратишь столько, что дешевле все эти мелочи людям «за бесплатно» раздать… Да, крепки и длинны наши совковые корни! Пустота этого ритуала состояла в том, что ключи у охраны все равно были. Один комплект после установки дверей Самвел, шефовский водитель и нештатный наш завхоз, оставил на вахте в запечатанном металлическом стакане. Запечатана она была личной печатью шефа. Правда, за несколько месяцев ночного благополучия пластилин печати оплыл и нужно бы поставить ее заново, и Самвел говорил об этом Василию Васильевичу, но тот все забывал об этом пустяке. А держали эти ключи на вахте именно на тот случай, что если произойдет какое-нибудь ЧП, как это однажды случилось, когда нас залили наши «верхние» соседи, можно было оперативно принять меры. В тот раз меня, как самого близкоживущего, вызвали заполночь вскрывать затопленную комнату, и я появился через двадцать минут, но половина наших бумаг на столах уже успела превратиться в расползающиеся грязные лохмотья. После этого и решили держать «дежурную» связку ключей от всех помещений у ночного охранника... Я вернул Борису журнал со своим автографом, и пошел к лифту. За спиной у меня прозвучали обыкновенные в таких случаях слова Бориса, который участливо спросил: - Ничего не забыли? Проверьте, а то по такому морозу назад возвращаться и холодно, и пути не будет! Я остановился и действительно проверил портфель – все ли бумаги на месте? Оказалось – все. Я достал из портфеля и прозрачные файлы с документами, и две непрозрачные с «лысыми» - одна для Александра Петровича, а в другой – мои командировочные. Молодец Елена Никоновна – хорошую она упаковку придумала! Борис молча наблюдал за моими манипуляциями с извлеченными бумагами и по его лицу - круглому, рябоватому, с резкой, живой, почти оранжевой сеткой сосудов, желтевшей по мере того, как он веселел, расплылась довольная улыбка. Это определенно свидетельствовало о небезосновательности подозрений «благоверной» в том, что отсутствует он порой не только по причине клёва в лунке, да и на рыбалке бывает не один, а в компании какого-то Сенькибахуса. Болтовня с секьюрити – это только минутная задержка на пути домой, к компьютеру, где меня уже ждал совершенно иной, манящий и желанный мир. Тот мир, в котором именно сегодня нужно было решить некоторые важные вопросы, поскольку уже завтра я на неделю должен был его покинуть – в Амгарске у меня не будет возможности «полазить по Интернету». Но ведь из минут складываются часы! И следовало более серьезно отнестись к словам нынешнего партийного гимна, с отеческой строгостью призывающего: «Не думай о мгновеньях свысока!». Вспомнив это увещевание, я заторопился к выходу из института. … Я выхожу из стеклянной громады «НИИМотопрома» в круговерть метели зимнего вечера. Последний элемент его архитектурного декора – мощная бетонная плита нависающего над головой защитного козырька - спасает от снежного вихря разве что на секунду-другую. Вихрь нарушил нормальную работу и у неподконтрольных администрации арендаторов-самозаселенцев: местные вороны устроили на козырьке нечто вроде «птичьего ресторана». Это весьма практично и свидетельствует о высоком «Ай-Кью» наших «серых» крылатых соседей по городской экологической нише. На крыше козырька птиц никто не беспокоит - кошкам там спрятаться негде, а породы летучих собак у нас так и не появилось, несмотря на жесткое давление естественного отбора, обусловленного резко возросшим поголовьем племени бродячих собак. Увеличение их численности, кстати, никак не связано с каким-то изменением репродуктивной активности этой популяции в целом. Численность возросла за счет потерявших кров и миску каши «четвероногих друзей», которых многие «двуногие безрогие» в недавние времена заводили в качестве «воспитательного средства» для подрастающего поколения. А оно, это «новое поколение», т.е. «наша молодежь», побаловавшись с живой игрушкой, выбрало «Пепси» и все более активно переключается на разных заморских «тамагуччи», а чуть повзрослев - на интернет-игры с эротическим уклоном. Выйдя из-под почти бесполезного «защитного козырька», я поднял голову, чтобы поправить сбившийся шарф. Там, в вышине, почти полнеба занимала гигантская, ярко сияющая электрическим светом стеклянная громада небоскреба, вырастающая на тускло светящихся, темно-красных от внутреннего тепла, бетонных параллилепипедах первых этажей института. Но, конечно, не эта картина – самое привлекательное зрелище в такой холодный зимний вечер! Обычно я возвращаюсь не по протоптанной утром тропинке (которую за день успело основательно замести и для возобновления ее проходимости уже не было стольких энтузиастов, как утром, когда дорога каждая минута), а по чуть более длинной, но гораздо более интересной дороге. Она начинается от институтских дверей и ведет сначала к метро (это самая ее любопытная часть), потом сворачивает на поднимающуюся в гору Верхнебережковскую улицу и через систему безымянных проездов приводит к дому. И сейчас я был в самом начале пути, шел по дороге к метро вместе со спешащими домой сотрудниками и сотрудницами многочисленных фирм, расположенных в арендуемых у института офисах. Чем холоднее на улице, тем интереснее эта часть дороги. Холод играет свою игру с людским ручейком, текущим по институтскому двору к железным воротам, от которых до метро всего метров триста. Все идут с примерно одинаковой скоростью, а потому, пристроившись вслед какой-нибудь хорошенькой «маркетанке» из фирмы по продаже искусственных новогодних елок испанского производства, можно наблюдать, как мороз буквально «раздевает» попавшую в его объятия жертву. Сначала охлаждаются подолы шуб и юбок и, по мере охлаждения, становятся все более прозрачными для красного или даже оранжевого свечения ножек своих хозяек. Поднимаясь снизу вверх, волна охлаждения укорачивает подолы юбок, доводя их порой до «мини» такого класса, от которого захватывает дух у встречных юнцов с пышными шевелюрами под полупрозрачными вязаными шапочками. Очень сожалеет о том, что утратил возможность наблюдать такое бесплатное шоу Илья Стефанович. Это произошло года три тому назад, когда он купил машину и вынужден был теперь по вечерам ходить не по дорожке к метро, а сразу со ступенек спускаться к своему «Морду». Иногда, когда холода стояли долго, и было ясно, что к вечеру не потеплеет, он приезжал на метро, оправдываясь трудностями запуска холодного двигателя, но начинавшие поблескивать без четверти пять, перед окончанием рабочего дня, его глазки, явно свидетельствовали – не только проблемы с двигателем понуждали его ездить на метро. Однажды, когда шефа почему-то не было, и текущее состояние дел не требовало особого внимания, Илья Стефанович читал «Улус» Джайса (он действительно интересовался литературой и обладал хорошим вкусом). Одно место настолько его «задело за живое», что он обратился ко мне с вопросом: - Игорь Петрович, а вот угадайте, в какое время года происходила эта сценка? Здесь главного героя Блюма леди Биллингам обвиняет в сексуальных домогательствах, вспоминая, как он… Илья поискал глазами нужную цитату и громко, так, чтобы слышали все, прочел: «… мне писал разными почерками, расточал льстивые комплименты, называл Венерой в мехах и уверял, что ужасно сочувствует моему продрогшему выездному лакею. Он самым неподобающим образом восхвалял нижние части моей фигуры, мои полные икры в шелковых чулках, натянутых туго до предела, и весьма пылко распространялся о прочих моих сокровищах…» Я в то время ещё не читал Джайса, а потому ответил первое, что пришло в голову – мол, судя по тому, что Венера была в мехах, дело вряд ли происходило в июле. И продолжил фантазировать о том, что Джайс, хотя и писал от лица английской леди, наверняка имел в виду (во всяком случае, вторым пластом своего сознания) такое возможное место действия, как Моковия, поскольку за образом продрогшего лакея явно проглядывается западный миф о «golojopyh» кучерах в Рассее. Илья с любопытством выслушал мой комментарий и как-то странно посмотрел на меня, словно пытаясь понять, говорю ли я «умную вещь» или просто прикрываю свое незнание Джайса. Но все-таки решил, что я не могу быть незнакомым с таким «культовым» для интеллектуала романом, как «Улус», и потому принял первую гипотезу. А потому сказал: - Да, пожалуй, вы правы… Джайс редко упоминает Моковию, но то, что все-таки делает это, показывает, что он был знаком с некоторыми рассейскими особенностями. А уж про прелестные для мужского взгляда картинок нашей зимы должен быть наслышан… За окном стоял двадцатиградусный мороз, меховые шубки наших дам грелись на вешалке, и Татьяна Борисовна выразительно хмыкнула, слушая этот наш обмен комментариями произведения ирландского классика… Не оставляет равнодушным эта порождаемая морозом «весенняя метаморфоза» женских туалетов посреди суровой зимы и взгляд солидных обладателей дубленок и респектабельных кейсов. «Солидные» впрочем, тоже выглядят забавно, когда из-под брюк начинают показываться силуэты их икр, покрытых плотно облегающими трубочками кальсон. Да и сами кейсы преподносят своим владельцам курьезные сюрпризы! На пару минут, пока содержимое, более массивное и теплое, чем пластиковые крышки, не охладится до температуры окружающего воздуха, они становятся почти прозрачными. И тогда бывает, что среди теней бумаг и книг вдруг появляются силуэты то характерной бутылочной формы, в которых плещутся неизвестные жидкости, то тускло-желтые колечки резинотехнических изделий известного предназначения, а то и вовсе силуэты чего-то заостренного или с глушителем… Впрочем, такие сюрпризы получают разве только «лохи» или беспечные ротозеи, поскольку «истинно солидные» обо всем этом знают и носят свои вещи в специальных «зимних» кейсах с электроподогревом стенок, при любой температуре воздуха светящихся ровным молочно-синатовым цветом. Как тот кейс, с которым Бурый сопровождал сегодня с утра Елену Никоновну. И спешащие к метро «полураздетые» барышни, решившие почему-то вместо элегантных брюк надеть в этот день предательские юбки, и обладатели дешевеньких «летних» кейсов с «непубличным» содержимым, конечно, прекрасно знают эти особенности первых минут пребывания на морозе. И являются они, как правило, жертвами своей собственной доверчивости и плачевного состояния экспериментальной метеорологии в нынешней Рассее. Прогноз погоды на сегодня обещал, что Моква окажется «в зоне мощного атлантического циклона с умеренной температурой», а в вечерней сводке Госгидромета уже говорилось о «прорвавшемся к нам арктическом антициклоне» и тридцатиградусном морозе… Барышни узнали об этом в обед и до конца дня мучались дилеммой – остаться в офисе на часок после окончания рабочего дня и добираться до метро по дороге относительно безлюдной, или, все-таки, рискнуть? Но у многих и такой дилеммы не было – их уже ждали назначенные свидания или посещения театров. Так что, предвкушая острые ощущения от нескромных взглядов случайных попутчиков (или – реже – страшась их до ужаса – это уже зависело от конкретной барышни) они выходят на улицу «вовремя», сразу после окончания рабочего дня в 17 часов. Конечно, при этом предпринимаются отчаянные, хотя и малоэффективные, «технические меры предосторожности», как то: прежде, чем быть надетыми, шубки и пальто клались на батарею отопления в наивной надежде, что, прогревшись, они дольше останутся непрозрачными на морозе. Законы теплопроводности и свойства теплоемкости это, конечно, не отменяет, но даёт иллюзию выигрыша 10 – 15 секунд «приличного вида» на улице. (При этом рискуется гораздо более долгими минутами остаться без того же «приличного вида» на пути от двери фирмы до выходной двери института, и далее – в метро, на свидании, в театре, поскольку полежавшие на давно не чищенных пыльных радиаторах шубки начинают выглядеть как-то бомжевато…) Сегодня мне «не повезло» и передо мной на дорожке оказался какой-то солидный толстяк, сквозь дубленку которого проглядывались только замки его подтяжек да связка ключей в заднем кармане брюк. Несколько комичным его делали только сами брюки, обшлага которых почти совсем исчезли и они обрели длину, о которой говорят, что в таких брюках удобно «от долгов бегать». Я шел за ним до развилки на Верхнебережную улицу, вдоль которой префектура специально посадила тополя и какие-то кусты, которые слабо светились в сильные морозы и, тем самым, позволяли сэкономить на уличном освещении (что специально выделялось в предвыборной листовке одного из авторов этой идеи), после чего до самого дома почти никого не встретил. Попалась только какая-то старуха с костлявыми ногами, которая катила сумку-тележку с едва тлевшими на ее дне картофелинами и двумя трехлитровыми банками соленых огурцов, да припозднившуюся на «раздачу детей» из детского сада молодую мамашу с дочкой. Брючный костюм, просвечивавший сквозь не очень толстое пальто, подчеркивал изящную фигуру матери, а силуэт девочки напоминал Голема – толстого и круглого из-за вязаных рейтуз и пушистого свитера, обмотанных к тому же оренбургским платком… Но мороз подарил ещё одно развлечение – на пути стояли несколько «крущёб», подобных той, с которой началась моя служба в «Ипотехе». Поскольку крущёбы появились на свет в те героические времена, когда лозунгом дня был «квадратный метр – мерило наших дел» и в «рапортах к съезду» всегда говорилось только о количестве новых квадратных метров на душу населения, но никогда – об их качестве, стены крущоб были изготовлены из довольно тонких панелей, которые промерзали довольно быстро. И потому, проходя мимо них по улице в такой мороз, можно было видеть и горящие конфорки кухонных плит (их огонек мерцал отнюдь не в окне!), и сеть электропроводки, порой красно-оранжевую, а в отдельных местах и зеленеющую от перегрузки, и все радиаторы «парового» отопления с их системой подводящих и сливных труб, кое-где подтекающих, а потому порождающих «искорки» падающих куда-то в межэтажные перекрытия капелек темно-красной воды, все электронагреватели и коврики «доброго тепла». Кое-где проглядывались и силуэты обитателей этих крущёб – сидящие за столами, лежащие в ванных где-нибудь на уровне третьего этажа у тебя над головой, и даже – не могу молчать, скрывая правду жизни! – сидящие на стульчаках ватерклозетов. Таковы были простые и наивные, порой грубоватые и даже неприличные, но вполне естественные шутки сегодняшнего мороза. Конечно, ничего особенного в этом не было – что может быть особенного в картинке, повторявшейся за хорошую зиму не один десяток раз! – но всегда, когда это случалось, люди со злостью поминали «этого Круща-овощевода», который дал добро на строительство этих «зимних аквариумов». При виде современных «крущоб» мне припомнилось, что Илья Стефанович недавно рассказывал об исследованиях историков и социологов группы Артема Гуларяна, которые установили любопытную взаимосвязь зимних зрительных восприятий с формированием нашего менталитета. Дело в том, что в старину стены бедных крестьянских домишек становились прозрачными зимой. Это наложило свой отпечаток на "рассейский" национальный характер, воспитав в народе коллективистские представления. Ведь человек постоянно чувствовал себя частью большого коллектива – общины. Летом - потому что работали вместе. Зимой – потому что жизнь каждого была открыта соседям. Это, в свою очередь, тормозило развитие индивидуальности, личностных черт "рассейского" крестьянина (как и всех северных народов, в отличие от итальянцев и французов). Зажиточный хозяин, прежде всего, ставил новый теплый дом с толстыми стенами, и этим самым отделялся от общины. Такое поведение порицалось, и зажиточных крестьян стали называть… "черными" или "чернож...ми". Естественно – ведь у них афедрон не светится. Ну а дворяне, разумеется, издревле использовали преимущества теплых хором. Обитатели более старых «архитектурных излишеств», строившихся еще при великом предшественнике «овощевода» тайно радовались в такие вечера своей пусть частичной, но уподобленности старому дворянству. А именно тому, что благодаря стратегическому гению лучшего друга пионеров, артиллеристов и архитекторов могли не опасаться оказаться буквально «с голой ж….» на публике, отправляясь в туалет своей квартиры, расположенный за выходящей на людную улицу стеной своего дома. Но и протечки их канализации (с более, конечно, тусклыми по сравнению с крущебными искорками-каплями) легко в такие вечера могли быть обнаружены местными сантехниками. Могли-то, оно конечно, и могли, но реально это происходило, разумеется, крайне редко и всегда «за умеренную дополнительную плату», определяемую и интенсивностью капели и степенью сухости во рту того «Родионыча», который обслуживал данный дом. Гораздо чаще падающие искры-капельки сбивали с толка пролетающих мимо ворон и голубей, принимавших их за животворный источник и разочарованно стучавших клювами по облицовочной плитке или штукатурке, промерзшей настолько, что становилась прозрачной, как глаза холодного убийцы, стекленеющие от стенаний своей жертвы… Я зашел в магазин и купил громадный грейпфрут. Нателла очень их любит, а я люблю доставлять ей маленькие удовольствия. К тому же и в культовом нашем фильме о подвиге настоящего разведчика сказано – «неудобно идти без подарка». И вот я подхожу к дому. Наш дом – это уже «послекрущёвская» постройка, архитекторы которой, вероятно, памятуя о заветах своего лучшего друга, учли кое-что из печального опыта эксплуатации крущёб, но, все-таки, далеко не всё. Для того чтобы учесть всё, нужно было те нефтелолларды, которые текли розовой рекой в страну в то время, полностью направить тогдашним строителям домов и архитекторам, но в этом случае на какие «шиши» мы строили бы ракеты с ядреными боеголовками, которые сегодня тысячами уничтожаем? (А история, как будто издеваясь над нами, опять открыла шлюзы на нефтелоллардовой реке! Но мы, конечно, не повторяем прошлых ошибок и ракет больше не строим – старых ещё полно! – а сливаем этот поток в специальные банки. Правда, банки эти не очень прочные, не научились мы пока прочные банки делать, они регулярно лопаются и их содержимое исчезает вообще «черт его знает куда»). Вот почему и наш дом в такие зимние вечера добавляет яркие краски в нелаковскую картину «Мороз с огнеметом дозором обходит владенья свои». Ярко светящаяся полоса, тянущаяся по земле от подъезда к красновато-светящемуся строению «сарайного типа», где сквозь тонкие стены просвечивают могучие штурвалы задвижек и прочей запорно-распределительной арматуры, выдает расположение теплотрассы любому террористу лучше, чем самая секретная официальная схема (тоже, конечно, не за семью печатями для толстого кошелька). Ведь схему составляли лет тридцать назад, когда строили дом, а теплотрассу латали-перелатывали раз десять за это время. При этом всякий раз клали трубы новые, но со старым браком – такими же, как у старых, раковинами в стенках из-за плохой прокатки и микротрещинами из-за неправильного отжига. Стоя над теплотрассой я просто невооруженным глазом видел, что, например, одна нитка сильно «газит» на изгибе, распространяя в промерзлой земле отсвечивающее желтым цветом облако пара, которое, расползаясь, «проявило» корневую систему стоящей у подъезда березы. Получалось очень красиво – из пушистого, почти прозрачного снега, возносилась стройная колонна ее ствола, а под землей распласталась паутина корней, обтекаемая желто-оранжевыми волнами пара… Красиво-то оно, конечно, красиво, но вот как прорвет трубу окончательно - уже не оранжевый пар, а ярко-красный кипяток начнет подмывать фундамент! К желтеющему пятну спланировали две больших коричневых вороны. Но, видимо, быстро поняли, что приняли это облако подземного пара за нечто другое, во всяком случае, едва коснувшись снега лапками, оставившими на поверхности полупрозрачного сугроба характерные следы-крестики, они принялись о чем-то кричать друг другу и, сделав несколько скачков, поднялись и улетели. И я снова стою у той самой двери, которая выпустила меня в мир сегодня утром. Круг сегодняшнего дня провернулся уже на три четверти… Глава 15 О собачьих нежностях, теленовостях, положении в «либерально-демократическом лагере», окончании истории пропавшего винтика, пробуждении моего компьютера, а также об аналогиях поведения в системах «человек-машина». Первый морок. Какой приятный глас музыки Внезапну слух мой поразил. Какие радостные клики Мой тёмный разум ощутил! Джим, ткнувшийся было в ноги с требованием оглаживания и почесывания, с собачьей проницательностью понял, что мне не до него, и, взглянув на меня с укоризной, отправился к Нателле, которая уютно устроилась в «большой комнате» в кресле с книжкой в руках. Она не оттолкнула, как я, песью морду, а принялась чесать ему за ухом, приговаривая: «Хороший пес, добрый Джим…». Пришел я к Нателле с вопросом – не видела ли она моих запасных очков? Она, естественно, спросила – а куда я подевал те, которые постоянно ношу? Хотя более естественной, как мне кажется, была бы иная формулировка того же по сути вопроса – что случилось с моими постоянными очками? Именно на него я и ответил, рассказав историю потери винтика. Нателла сказала, что, по ее сведениям, полученным из заслуживающих доверия источников, мои запасные лежат в той сумке, с которой я постоянно езжу в командировки, и нажала кнопку пульта дистанционного управления телевизором. Телевизор мгновенно откликнулся на это голосом Аримы Халявиной: «… и тем нанес ущерб владельцам акций «Юкоси» на сумму…», потом как будто икнул (это Нателла переключила канал) и запел сладким и сильным голосом Николая Ласкова: «Са-а-а-та Лю-чи-и-ия…» - какой приятный «глас музыки!» Я успел понять, что Халявина говорила не об амгарских проблемах с сернистой нефтью, а о ходе аппеляционного разбирательства скандального во всех отношениях дела бывшего владельца «Юкоси», который вот уже четвертый год (из тех девяти, которые «впаял» ему «самый независимый от здравого смысла суд в мире») сидел в тюрьме, а вся «демократическая общественность» и в стране, и за рубежом, с напряженным вниманием следила за тем, как власти собираются выпутываться из этой ситуации в канун президентских выборов. Замечу, кстати, что отечественная «демократическая общественность» следила за этим из окон своих «ледяных избушек», громко называемых «партиями», в которых безвылазно сидела отдельными «семьями» в течение всей последней политической зимы. И продолжает сидеть даже в преддверии жаркой поры президентских выборов, неизбежно расплавящих самые толстые ледяные крыши. И потекут они «красной водичкой» по нашим городам и весям! И, кстати, самый предусмотрительный и «непотопляемый» из «либералов» и «демократов» тоже ведь поплывет! Его избушку, сколоченную еще «демократической весной» из очень долговечных, но второсортных материалов, интеллигенты за ее горластое, с претензией на мещанскую пышность, «население», прозвали «Люмпенбургом» И ведь поплывут «люмпенбуржцы» вслед за всеми остальными, захлебываясь этой «красной водичкой» на обломках своей избушки, может быть, лишь чуть более плавучих, чем у других. Но никакая община демократов не желала вступать в «колхоз «Объединенной либеральной оппозиции»», поскольку главы этих семей (особенно патриарх либерализма Григорий Петрович Мессеинский, имевший устойчивое прозвище «Тот-ещё-Фруктов», да и неизменный «мэр Люмпенбурга» Вольф Ширинковский, по партийной кличке «Незаконный сын Фемиды») прозорливо предвидели – в этом случае им одним, без помощников, придется окучивать старые посадки в своих огородах. Молодежь ведь побежит на общее, «колхозное» поле... Утешало в этот момент то, что политический ажиотаж вытеснил с экрана экономическую информацию и – по крайней мере тем из наших конкурентов, которые ещё ничего не знали о технологических проблемах АМЗ – ничего не сказали об этом с экрана телевизора. Я вернулся в свою комнату, закрыл дверь, достал из бокового кармана своей «командировочной сумки» запасные очки, поправил отвалившуюся «седалищную плоскость» компьютерного кресла, сел, и нажал левую клавишу мыши… Что-то тихонько, как пробный звук мастерского ударника оркестра «Kremlin», клацнуло внутри стоявшего под ногами короба системного блока, он едва слышно запел, беря при этом все более высокие ноты, быстро вышедшие за диапазон Ласкова и – через несколько мгновений – вообще ушедших за границу области звукового восприятия, и на экране появилась заставка «Mycrosoft». Она быстро сменилась картинкой деревенской идиллии, которую я поставил для рабочего стола. Но я знал, что некоторое время (минуту-другую) уже всплывшие на экране иконки не будут работоспособны – у компьютера есть свой «внутренний оператор», который подключает программы и их блоки в какой-то, одному ему ведомой, последовательности. И в течение необходимого для этого времени мой компьютер будет «просыпаться», и, как я сам по утрам, соображать – где он и что от него хотят? Процесс этот, конечно, более быстрый, чем у меня (его «коммуникативные сети» все-таки основаны на настоящих проводниках, а не на водянистых нейронах, как у меня в мозгу), но, полагаю, не менее для него болезненный. Если в этот период я нетерпеливо о чем-то его спрашивал, нажимая на клавишу и понуждая начать работу, он либо молча саботировал мое бесцеремонное поведение, либо вообще зависал и становился абсолютно глухим к любым обращениям, кроме, разумеется, кинжальной кнопки «Reset». Вероятно, это соответствовало тому ступору, который обездвиживает и меня по утрам, когда я, подчиняясь какой-то подсознательной программе, шагаю как робот или «функциональный дубль» на кухню, чтобы включить чайник, и вдруг слышу вполне разумный и простой для меня при других обстоятельствах вопрос, озвученный слегка раздраженным из-за утренней спешки тоном: - А где у нас квитанция за телефон? Я тебе ее давала в прошлый раз… Ты заплатил? А то ведь отключат телефон! Компьютер все еще никак не мог проснуться, я сидел перед иконкой рабочего стола и ждал, когда же, наконец, смогу приступить к работе. Вдруг дверь открылась и в комнату вошла Нателла, держа что-то в зажатом кулаке, с рассерженным и удивленным выражением на лице. - Ты что, меня разыгрывал? Так это глупо! А из-за твоей шутки я себе чуть зуб не сломала! В полном недоумении я спросил: - Что случилось? По моему виду и тону она, вероятно, поняла, что я вряд ли причастен к ее неприятности, а потому не стала развивать тему моей глупости, а рассказала следующее. После новостей она пошла на кухню «побаловать себя». Для этого взяла принесенный мною грейпфрут, срезала его верхний сегмент, насыпала на открывшуюся мякоть ложку сахарного песка, зачерпнула той же ложкой терпкой кашицы и отправила ее в рот. И через мгновение ощутила между зубами что-то твердое. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что едва не сломавший ей зуб предмет, оказался… Тут она разжала кулак, и уже у меня «глаза полезли на лоб»! У нее на ладони лежал… маленький винтик от дужки очков! Винтик оказался «тем самым», или уж очень на него похожим, ибо встал на свое место с первой моей попытки. … После совместного «гадания на кофейной гуще» мы пришли к выводу, что винтик, выпав из очков, запутался в ворсинках нитки, которой была пришита рукавная пуговица моего пиджака, после чего от тряски оторвался от этой нитки в момент покупки мною грейпфрута, попал в трещинку кожуры, расположенную в районе 60-й параллели его «глобуса», оказался на грани среза, сделанного Нателлой, в процессе зачерпывания чайной ложкой терпкой мякоти переместился в отторженный от плода кусочек, и вместе с крупицами сахарного песка попал в рот к Нателле! Ничего более простого и логичного мы не придумали, а это объяснение позволило нам охранить свой здравый смысл от покусительств на него сомнительного «Принципа Амакко», о котором я узнал из своих блужданий по Интернету. Это нас успокоило, и Нателла ушла растолковывать Джиму, недоуменно скребшемуся под дверью, результаты нашего анализа, а я вернулся к компьютеру, который уже проснулся окончательно, и подмигивал мне какой-то фиолетовой лампочкой, сигнализируя, что он полностью готов к работе и ожидает моих команд. Сидя перед экраном монитора я, как всегда, решал извечный вопрос рассейской интеллигенции: «С чего начать?». Памятуя о том, что я неожиданно лишаюсь сетевого общения на неделю, я решил закончить уже почти готовую статью для сайта «Альтеративная История», обещанную мною его редактору, Андрею Склярову, ещё две недели назад. Нужный файл хранился в папке «Мои статьи», иконка которой стояла на рабочем столе, и я решительно направил курсор в ее сторону… Однако дневная усталость, обильный ужин и, вероятно, инфразвуковые акустические колебания плоскости монитора оказались в такой суперпозиции, что, как мне показалось, на мгновение я «выпал из действительности». И в голове ясно проявилась такая картинка. Какая-то не очень опрятная комната. Старый канцелярский стол, накрытый листом пожелтевшего и растрескавшегося от времени плексиглаза, дешевенький китайский телефон на нем, который начинает тренькать и попискивать, как паровозик игрушечной железной дороги из моего детства. Медленно тянущаяся к нему рука и вдруг хорошо слышимый голос из грязно-коричневой трубки: - Мефодий? Ты меня слышишь? Да, это я… Конечно, с работы! А ты спишь, что ли? Рано, рано залег в берлогу! Дед твой, Денис Никодимович, царство ему небесное, говаривал при таких оказиях – и ты, чай, не медведь, да и он ведь не впадает в спячку! Что? Не знал, что у медведей нет спячки? Так знай: медведь не сурок, спит, но в спячку не впадает, и если он государев медведь, то готов служить в любое время года. Ты многого ещё не знаешь… А теперь слушай. Сегодня нужно поработать. Нет, не по полной программе – только стол и все бумаги на нем. И ящики стола – их там два. Как сделаешь – звони. И не бери с собой твоего круглолицего рыбака – он не такой дурак, как прикидывается. Сидел он у меня когда-то в аналитиках по делу этого гения… Глаз у него острый – лишнее может увидеть. Ну, ладно, пока… Об изящной неуклюжести заголовка статьи, пророческом даре поэта Прожектовского, а также о моей переписке с зарубежным писателем Савченкой. Второй морок. Многих мнимых Героев мы видели, Многих общего блага радетелей; Все ли свято хранят обещание Быть отцами, закон блюсти? Наваждение длилось и вправду недолго. Я очнулся со смутными воспоминаниями о каком-то медведе на телефоне, но воспоминания быстро растаяли и я, поняв, что «прикорнул» не покидая «рабочего места», озаботился прежде всего тем, чтобы побыстрее включиться в работу, опасаясь скорого наступления настоящего сна. На первый взгляд статья называлась немножко неуклюже – «Ленин – жил, Ленин – жив, Ленин – будет жить!». Разумеется, читатели моего возраста прекрасно поймут, у кого я «содрал» эту строку. С творчеством поэта-интернационалиста («я дедом – казак, другим – чеченик, а по рожденью – грузин!») нас знакомили в школе. И не просто знакомили – заставляли учить наизусть его посвященные Партии и Революции стихи и поэмы! Странное дело, но именно этот поэт, несмотря на усилия школьной учительницы литературы (и, по совместительству, Секретаря парткома), оставил в моей памяти глубокий след и я уже самостоятельно, в свое удовольствие, прочел почти все 13 толстых темно-зеленых томов его Собрания сочинений. И многое запомнил. Даже его экстремизм в области восприятия искусства в молодости вызывал у меня восторг. Помните: «Эх, поговорить бы, да иначе! / С этим самым Леонардо Да-Винычем…»? И ведь пророческой оказалась эта рекомендация поэта! Совсем недавно, когда к картине Леонардо применили «допрос с пристрастием второй степени» (как пишут в Интернете, картину ««Дева Мария в скалах», написанную в 1483 году для алтаря миланской капеллы, просветили в интенсивном инфракрасном свете»), то под основным, ясно видимым красочным слоем, нашелся новый шедевр. «Если приглядеться, видно коленопреклоненную молодую женщину с вытянутой правой рукой и что-то, что при известном усилии воображения можно определить как колыбель. Скорее всего, это должен был быть сюжет «Богоматерь и Иисус в колыбели». Отсюда я, кстати, сделал вывод о том, что применение к картине технологии допроса «второй степени» (сильного воздействия без членовредительства) было вовсе необязательным. Мощный поток красного и инфракрасного света, конечно, улучшает прозрачность старых красочных слоев, но используется этот прием обычно для исследования относительно «молодых» картин. А у столь старых, многовековых, красочных слоев прозрачность и так достаточно велика. Искусствоведам нужно было только «взять глаза в руки» и внимательно присмотреться к сокровищу. Просто приглядеться к шедевру, уже долгое время открытому для их «ученого взора» (уж в этой-то области спектра - слава Богу! – никакие особые приборы нам вовсе и не нужны), а не «скользить по поверхности» рассеянным взглядом сытого удава, гипнотизируя публику извечными своими причитаниями о «пленительной воздушной дымке великого мастера»… Запомнил я и строку, ставшую заголовком этой статьи, которая теперь, в свете моего нынешнего мировосприятия, звучит для меня совсем по иному и гораздо более глубоко, чем тогда, когда по радио и с телеэкрана чаще неслась другая, с первого взгляда вполне аналогичная, поэтическая версия этой же мысли: «Ленин – всегда живой, Ленин – всегда с тобой…». На некоторую неуклюжую нарочитость названия обратил мое внимание известный писатель-фантаст Владимир Савченок, ныне живущий в «престольном граде Кыиве», с которым мы переписываемся и к которому я посылал статью для обсуждения. Статья Савченке в целом очень понравилась, что для меня, естественно, приятно. Он написал о ней так: «Название, прямо сказать, расхолаживающее, барабанное; поэтому не сразу и статью скачал, и за чтение принялся. Но, прочтя, увидел, что это вовсе не апологетика, дельно, критично. Названо неудачно, из-за этого многие кому надо, статью не прочтут, а те, кому не надо, прочтут - без толку». Савченок обладает непростым характером и далеко не во всем я с ним согласен. Как и он со мной. Он вообще человек определенный и решительный. И не комплексует, как я, когда в адрес какого-то достаточно хорошо знакомого корреспондента нужно высказать критические оценки. А пишет просто, как написал он мне недавно по поводу другой моей статьи: «Мое мнение о Вашей статье отрицательное». Коротко и ясно! Но то, что он считает статью «о Ленине» дельной - это искренно, а потому и приятно, и ценно. Однако менять названия я не буду. В свете получившей в последнее время широкую известность концепции американа Макса Тегмарка, в соответствии с которой личное бессмертие является столь же естественным следствием из квантовомеханических законов, как и пресловутый дуализм «волна-частица», строка о многовременности ленинского существования тоже может рассматриваться как предвосхищение, но уже не в искусствоведении, а в современной физике. Статья «о Ленине» уже достаточно «вылежалась», в нее были внесены поправки, которые я всегда делаю после обсуждения текста с «внутренними рецензентами», которых выбираю сам, исходя и из их профессионализма в данной области, и, разумеется, от степени моего доверия к ним. Теперь в нее следовало внести только некоторую редакторскую правку. Статья была посвящена одному из важных аспектов эвереттики – историко-филосфской трактовке теории Хью Эверетта. Эта, теперь знаменитая теория, наиболее известна тем, что она включила понятие о «параллельных реальностях» в современную физику. Как эта трактовка квантовой механики сказывается на Истории, что такое «личность» с эвереттической точки зрения на примере личности Ленина, и было основным содержанием статьи. Я решил прочесть статью «свежим взглядом» и открыл папку, озаглавленную «О жизни Ленина, или «Многих мнимых Героев мы видели»»… И снова непонятная истома сковала мою руку, потянувшуюся к домашней, пенковой трубке, привезенной из Турции, трубке в форме головы мамелюка, каковая вдруг открыла глаза, закрыв при этом мои. … Веки снова превратились в экран, на котором возникла уже не прежняя комната, а кабинет шефа. Мой взгляд принадлежал теперь какому-то другому человеку, который входил в кабинет не через нашу общую комнату, а через ту, «персональную» шефовскую дверь, которая вела в кабинет из коридора. В кабинете не было темно, поскольку светились ярким красным цветом батареи отопления, да и лунный, не менее яркий свет этой чистой морозной ночи, свободно проникал через большие стеклянные окна. Владелец моих глаз подошел к столу Василия Васильевича и принялся осторожно перебирать лежащие на столе бумаги. Их было немного – не любил шеф захламления своего стола – и незнакомец фотографировал каждую из них каким-то хитрым цифровиком, после каждого снимка проверяя по дисплею качество кадра. Если оказывалось темно или нерезко, он повторял снимок. Закончив с документами, лежавшими на столе, неведомый мне ночной гость перешел к ящикам стола. Правый, расположенный у окна, содержал в себе кофейную чашку, пачку тоненьких сигарет и упаковку ароматических палочек. Последние почему-то заинтересовали его, и он сфотографировал их фирменную наклейку. Предметы он брал аккуратно и клал точно на те места, где они первоначально лежали. Закончив с осмотром правого, неизвестный перешел к левому ящику. Здесь было гораздо темнее – на это место падала тень от шторы и сюда не попадало свечение отопительных батарей, расположенных под окном. Однако, как оказалось, посетитель кабинета был готов к такому повороту событий. Он поднял руку и включил находившийся на опоясывающем голову обруче маленький фонарик. Это было очень странное ощущение – непредсказуемое движение не моих рук не моего тела. Почему оно оказалось для меня новым и неожиданным? Ведь чужие руки работали и при осмотре других вещей и документов на столе! Я быстро осознал причину этого - там руки работали как бы автоматически, их движения были предопределены положением предметов и представлялись вполне естественными, а здесь не принадлежавшие мне руки должны были помочь попавшим в затруднение моим глазам. И помогли очень вовремя. Если бы не свет фонарика, то и подсвечник-менора и нелепый часовой агрегат могли полететь на пол из-за неловкого движения этих рук, не предупрежденных плохо видящими в сумраке глазами. Освещенное фонариком пространство левого ящика содержало всего пять объектов. На самом дне лежала моя книжка «Многозначное мироздание», причем по степени потертости зеленовато-бурого ее лендрина было видно, что читали ее усердно, на ней – бумажные ленточки от двух упаковок банкнот, конверт с надписью «Там. Никиф.», и… тот самый листочек с инициалами и цифрами, который я сегодня трижды видел на поверхности этого стола!!!… О жизни Ленина, пушистости жгута его состояний, о философских проблемах марксизма, о многих обыкновенных и знаменитых людях, которые совершенно не подозревают о том, что являются именно жгутами, а также об одном нумизматическом курьезе. Третий морок. Коснися ж струн моих волшебной ты рукой… Этот морок оказался чуть более продолжительным, чем первый. Выходя из него, я ощутил сильную тревогу, и чей-то незнакомый голос шептал мне: «Не знаю, сон ли этот мир или тот, другой мир – сон. Просто не знаю. Да и не важно. Я знаю, что я – тот, другой, который мне снится…». Некоторое время я не мог понять причины этой тревоги – в памяти мелькали, угасая, образы ароматных палочек, отопительных батарей и моей давней тайной мечты – цифрового фотоаппарата. Я никак не мог связать причины своего беспокойства со столь приятным и желанным мне образом! Единственное, что приходило в голову и как-то объяснило мне дремотное видение, это то, что цифровая камера уже была у Ильи и он как-то демонстрировал нам снятые им на «цифровик» в Черномории виды, напечатанные на струйном принтере хорошего качества. Грешен, я тогда испытал приступ отнюдь не белой зависти и даже злости. Вот отсюда, наверно, и сегодняшняя тревога… Успокоившись, я снова обратился к экрану монитора. Итак, папка «О жизни Ленина». В папке было несколько файлов. Первый, который я и открыл, назывался «Общие соображения по теме». Там речь шла о том, что биография Ленина дает прекрасный пример проявления эвереттических склеек. Сама теория Эверетта – давал я себе указание - не должна подробно рассматриваться, на ее детальное изложение следует дать только соответствующие ссылки. Предполагается, что современный читатель в принципе знаком с тем, что в 1957 году Хью Эверетт опубликовал статью, в которой изложил свое видение квантовой механики. Для себя я решил, что читателю для понимания статьи должно быть знакомо следующее. В соответствии с эвереттическим взглядом на мир, во всех тех случаях, когда любая «материальная система» находится в процессе перехода от одного состояния к другому, причем результаты этого перехода могут быть разными, «на самом деле» осуществляются ВСЕ возможности. Иными словами, согласно Эверетту, когда бросается монетка, то выпадает не «орел» ИЛИ «решка», а возникают (и «в дальнейшем» реально существуют!) по крайней мере три различных вселенных, в одной из которых выпал «орел», в другой – «решка», а в третьей монетка «встала на ребро». Выражение «по крайней мере» употреблено не случайно – различных вариантов даже в этом, простейшем примере, гораздо больше. Так, ветвь Мироздания (или, в терминологии эвереттизма, «Мультиверсума»), где выпал «орел», состоит из множества очень похожих «веточек» (или «волокон»), в которых этот «орел» устремляет свой взор то «на запад», то «на восток», то «на юг», то «на север». Понятно, что и эти «веточки» также расщепляются – «на северо-северо запад», «юго-юго восток» и т.д. Тоже можно сказать и про ветвь «решки». И вообще процесс бросания монетки можно условно изобразить в виде ветвящегося древа – в момент броска ствол «исходного состояния» разделяется на три ветви – толстую ветвь «орла», которая, если присмотреться внимательнее, состоит из многих волокон - орел «смотрит на север», «смотрит на юг» и т.д., такая же толстая ветвь «решки», и тонюсенькая веточка «на ребро». Толщина ветвей соответствует тому, что и в квантовой механике, и в «обычной жизни», мы называем вероятностью того или иного исхода броска. Если теперь вместо монетки представить себе реального человека (в данной статье – Ленина), то можно обнаружить, что его жизнь – это переплетение огромного числа ветвей и веточек эвереттических развилок, или, если употребить другую образную систему – некий канат, состоящий из жгутов и волокон разной степени ворсистости. Каждая ветвь и веточка – результат того или иного жизненного выбора, поступка. И здесь возникают два принципиальнейших вопроса. Первый – «где» эти ветви, веточки, жгуты, ворсинки существуют? В каком-то «надпространстве», огромном настолько, что оно способно вмещать ежесекундно умножающуюся массу все новых вселенных? Такой ответ справедливо порождает ощущение некоей дурной бесконечности. Гораздо естественнее другой ответ – все сущее извечно существует, но логически-связно реализуется только в нашем сознании. То есть ветвление – это процесс не порождения, а только проявления неких предвечных сущностей. Да, такой ответ порождает новые вопросы о природе времени и функциях Сознания, но кто сказал, что эвереттика решила все вопросы? Она поставила исключительно интересные новые – и спасибо ей за это! Второй – существуют ли эти ветви строго сами по себе, никак не взаимодействуя, или при каких-то условиях их контакты приводят к следам, которые мы можем обнаружить в «нашем мире»? То есть ситуация требует – «коснися ж струн моих…». Воспользуемся призывом и рассмотрим ее подробнее. В классической статье Эверетта предполагалось, что справедливо первое предположение – все «параллельные миры» являются «строго параллельными» и не взаимодействуют друг с другом. Но логика и история науки подсказывали мне, что запрет на взаимодействие - это аксиома, которая нужна была Эверетту на первом этапе формулировки нового взгляда на природу вещей. И, так же, как в геометрии, отказ от этой аксиомы не разрушает всю систему в целом, а только расширяет границы ее применимости. Именно из таких соображений и была выдвинута гипотеза о «склейках» - возможном взаимодействии эвереттовских «параллельных», при которых в нашем мире обнаружились бы «странные», «загадочные», «чудесные» явления – материальные свидетельства реальности параллельных миров. Кроме того, логично было бы предположить и существование таких склеек, которые не оставляют материальных следов, а целиком относятся нами к психическим явлениям, а точнее – к их аномалиям. Но это – отдельная тема, которая меня пока не очень волновала. Её разработку начал Ю.В.Никонов, ещё не будучи звездой психиатрии первой величины, каковой он сейчас является. В статье о Ленине я хотел рассмотреть вопрос о том, насколько часто встречаются свидетельства «материальных склеек», как правильно их интерпретировать, как изменяется наш взгляд на Историю в случае появления убежденности в их реальности – то есть то, что является предметом разработки на нынешнем этапе развития «классической эвереттики». Сейчас становится все более понятным, что склейки – абсолютно обыденное явление природы и они не попадают в поле нашего пристального внимания именно в силу своей обыденности, как не принимается в расчет окружающий нас воздух, до тех пор, пока он не проявится в виде ветра, бури или какого-то другого особенного явления. Все эти «пропавшие очки», «потерявшиеся квитанции», «неожиданные находки», «компьютерные глюки» - это именно не замечаемый нами «эвереттический воздух», настолько привычный, что мы даже не задумываемся о его присутствии. То же самое можно, вероятно, сказать и о различных «кунштюках сознания» в «психиатрической эвереттике». Но иногда (и чем чуднее, тем реже!) мы встречаемся и с удивительными чудесами – каким-нибудь полтергейстом, «кругами на полях», летающими тарелками и т.п. Именно к таким особенным проявлениям склеек относятся и исторические документы, противоречащие «твердо установленным» историческим концепциям. Поэтому главной «изюминой» написанной мною статьи является недавно рассекреченный документ – письмо Ленина одному старому другу в Швейцарию. Содержание этого письма показывает нам его автора в таком свете, который совершенно «не вяжется» с каноническим образом Ленина – «несгибаемого борца за дело пролетариата». Показателен сам факт существования этого документа. Его анализу и философско-эвереттической трактовке и посвящена в основном эта статья. Кроме Ленина героями этой статьи должны стать те люди, которые окружали его и имели отношение к появлению, существованию и трактовке этого поразительного документа. Среди них и философ Дегорин, и диктатор Муссолини, и главный архивист Рассеи Козлов и многие другие политики, философы, журналисты, писатели и «просто читатели». Дальше шли выписки, цитаты, ссылки на исходные материалы. Их я читать не стал и закрыл файл. Сама статья была достаточно объёмной, а времени у меня было мало – глюки в голове ведь уже начались! И встал «микрогамлетовский вопрос» - читать или не читать? Хотя это была и хорошо знакомая мне статья, однако работа по вычитке – одна из самых тяжелых в процессе написания любого текста – от расписки в получении ссуды до философского трактата. Тут я как-то особенно ясно ощутил, что стою на «классической» эвереттической развилке. Сознание слегка затуманилось, и мне показалось, что процесс чтения не только пошел (что так радовало в свое время последнего Генсека), но уже и завершился – я, во всяком случае, больше читать этого не буду. Пусть Андрей Скляров теперь читает… Ах, нет! У любой статьи есть ещё и обязательный «довесок» - список использованных источников. И я снова открыл файл статьи… …Уф! Теперь, кажется, всё… Фамилии, названия, издательства, страницы сверены с подготовительными материалами. Нужно бы, конечно, проверить ещё раз и Интернет-ссылки, ибо чудит в последнее время Интернет, ой, как чудит! … И есть что-то серьезное в этой статье о Свирле, неизвестно как попавшей в почтовый ящик ее публикатора. Мир Интернета действительно живет какой-то своей жизнью, отличной от воли его авторов. Ссылки порой выдают какие-то загадочные тексты, явно не те, на которые эти ссылки делались, и возникающие на экранах мониторов странные тексты содержат информацию, которую можно с первого взгляда отнести или к розыгрышу, или к фантастике, или к бреду сумасшедшего или… к склейкам! И нужно бы заняться всем этим поподробнее. Нужно бы и к почте присмотреться – спам порой такое приносит! Но мало ли чем стоило бы заняться! Хотел бы я, например, завтра посмотреть последний «клад» - кучу мелочи, которую я выкупил у профессионального нищего, сидящего в подземном переходе. Что-то такое там было «подозрительное», из-за чего я и не пожалел сотенной, которую «нищий» на всякий случай проверил ультрасинатовым детектором валют - то ли редкий «юбилейный» биметаллический червонец, посвященный полету Гагарина, на аверсе которого по странной ошибке монетного двора был отчеканен профиль Титова, то ли фальшивый пятирублевик из сплава Вуда. Да не будет этого – завтра с утра запоет о чем-то тайга «под крылом самолета», на котором я полечу в Амгарск… … Но перед глазами поплыла не тайга, а та, первая комната с тайваньским телефоном. Чей-то палец с неровно остриженными ногтями крутил диск салатового дешевенького аппарата. В тишине было слышно его прерывистое дыхание, даже посапывание, и мягкий стрекот вращающегося диска. После того, как на том конце провода сняли трубку (а я слышал перед этим длинные гудки), незнакомый мне голос с некоторым напряжением спросил: - Алло… Отец, это ты?.. Да нет, я не спросонья Ну, мало ли кто! Ладно, прости, не сообразил, что в твоем кабинете никто, кроме тебя, трубку снять не может. Не узнал – богатым будешь! Что?.. Не хочешь сквозь игольное ушко? Да все равно ведь как-то нужно – не минуешь этого. А через ушко ли, через «второе кирильцо» - не все ли равно? Не будешь же ты даже и там в очереди стоять!.. Хорошо, понял – у тебя достаточно связей, чтобы Святой Петр не мешкал при оформлении входной визы… Последнюю фразу голос произнес со смешком, но тут же перешел на серьезный тон: - Сходил я... Да нет, один, конечно! Я его отправил на 24 этаж в женский туалет кран чинить – подтекает и барышни из «Либресс инвизибл», торговый дом их там, жалуются, что, неровен час, потечет потолок в мужском на 23-м, так что тогда о них мужики из дилерской конторы «Кондом и сыновья», которая как раз на 23-м, говорить будут?!.. Ага! И барышни эти предполагают примерно тоже… Под конец этого диалога тон снова стал игривым, но тут же снова и охладел: - Нет, с ключами особых проблем не возникло. Тут как раз недели три назад, когда я дела начал принимать, охрана, побаиваясь моей инспекции, генеральную уборку проводила. Ну, и в ящике для ключей пыль вытирали. Как-то неловко его тряхнули – банки и посыпались. И печати где смазались, а где и вовсе поотлетали. Всех арендаторов, естественно, попросили обновить. Куда там! Только двое из семерых это сделали… Да конечно, это для них, «деловых», пустое дело, мелочь, формальность… На другом конце провода, вероятно, проявилось раздражение этой болтовней, потому что голос прервался и следующую фразу произнес строго, почти официально, но, в то же время, и с явным торжеством: - И, представь себе, не зря! Бумажонка одна оказалась о-о-чень любопытная! Нет, читать я ее не буду. Ребус это… Думаю, что ты его разгадаешь быстро и не без пользы… Я уже для себя кое-что из нее извлек и на заметку взял – есть тут жирненькие телята и телки, будет кого за вымя взять… Да не все они мои – и тебе кое-что остается… Я к тебе сейчас приеду… О вечернем чаепитии с Нателлой, парадоксах квантовой механики и неорганической химии, рассеянном студенте, а также о качестве тосола. Первый морок об отце и сыне. Всё в ней – жизнь, и свет, и звуки: Подходи лишь только к ней Не с анализом науки, А с любовию детей! Вздрогнув от очередного клочка сонного тумана, я смог ухватить из него только вид корявого пальца, крутящего телефонный диск, да почему-то название фирмы «Либресс инвизибл». Наверное, запомнилась из какой-нибудь надоедливой телерекламы – то ли детской присыпки, то ли турагентства… Закончив работу над правкой статьи, я взглянул на часы. Время приближалось к полуночи, Нателла уже спала после сегодняшнего «сумасшедшего» для нее трудового дня. С утра она действительно проводила занятия с коммерческими студентами, у которых через пять минут после начала семинара от честных попыток вникнуть в механизм действия квантовых законов, от всех этих «принципов неопределенности Гайзенберга», и «полуцелых спинов электрона» определенно «поехала крыша». А что ещё могло произойти с головами этих будущих менеджеров, когда Нателла говорила им, что в соответствии с «принципом Гайзенберга» один и тот же электрон может и участвовать в образовании химической связи между двумя атомами водорода в пузырьке газа, поднимающегося со дна стоящей перед ними на столе пробирки с железными опилками, залитыми соляной кислотой, и может быть обнаружен американовским роботом, ползающим по удаленному от нас на 60 миллионов километров Марсу? И могли ли они представить себе строение какой-нибудь 2s-орбитали с ее «луковичными» слоями электронной плотности у атома углерода, входящего в состав тех самых мозгов, у которых уже «поехала крыша», но которые все-таки должны были эту двухслойную луковичность осмыслить? Или понять, что у электрона (того же самого, «пробирочно-марсианского»), частицы по «научным представлениям абсолютно точечной», вместе с тем есть хоть и «полуцелый» (в единицах планковсого кванта действия), но вполне реальный «вращательный момент», порождающий магнитное поле и, возможно, какое-то новое электромагнитное излучение? «Вращение абсолютной точки вокруг собственной оси» - могут ли понять такое даже хорошо проплаченные «коммерческие мозги»? И могла ли всерьез пенять им на это Нателла? А ведь через месяц, в зимнюю сессию, какой-нибудь доцент, принимающий экзамен, «влепит» такому студенту двойку, да ещё спросит при этом: «А кто у вас семинары вел? Разве он вам не объяснил этих элементарных вещей?». А вечером, за «обедом-ужином», Нателла говорила мне, что и сама она воспринимает эти кунштюки квантовой механики, конечно, как «объективную реальность, данную нам в ощущениях». Например, подобную столь запомнившейся нам по летней прошлогодней экскурсии в господский дом подмоковной усадьбы «Молоди», но понимает, почему так все устроено в этом мире, не больше, чем поняла тогда замысел строителей таинственной усадьбы даже после объяснений нашего сына-альпиниста, обследовавшего ее загадочные подвалы, закутки неясного предназначения и длинный коридор на почти обрушившемся втором этаже с окнами во внутренние комнаты… Этот момент, когда мы обмениваемся дневными впечатлениями, я очень люблю потому, что мы почти всегда в это время находимся и «в фазе» и на одном уровне жизненного процесса – я глубокая «сова», а Нателла – «жаворонок», так что ко времени обычного нашего «приема пищи» - между «файф-о-клок’ом» и семичасовым выпуском теленовостей – я уже «вошел во вкус» текущего дня, а она – «ещё не вышла» из него. В Мелехово, в музее А.П.Чехова, в коридоре перед столовой находится знаменитый «Дорогой многоуважаемый шкаф!». В нем мать Чехова прятала варенье и прочие сладости. Надеясь на его благосклонность и открытие доступа к сладостям, дети, гостившие в имении, обращались к нему столь почтительно. Я бы, с учетом заслуг в гармоническом течении нашей семейной жизни, к нашему кухонному столу, за которым нами с Нателлой столько сказано друг другу, применил более уважительное обращение: «Наипредостопочтеннийший кухонный стол!» Кстати, именно здесь, за этим кухонным столом, и произошел сегодня ключевой эпизод этой загадочной истории с винтиком из дужки моих очков - «Вскрытие грейпфрута» ... А после семинаров пришлось Нателле ещё проводить дополнительные лабораторные работы с «хвостистами». Тут уже она выступала в роли «мучителя-доцента» и задавала бедным «коммерсантам», пришедшим после пропуска всех уже состоявшихся работ практикума, коварные вопросы «на засыпку». Так, для того, чтобы определить, журнал какой именно группы взять из ячейки шкафа, где документы хранились рассортированными по фамилиям преподавателей, она наивным тоном спрашивала: «А кто у вас занятия вел?» И бедолага, не посетивший ни одной лабораторной работы, должен был выкручиваться из этой колючей для него ситуации. В ответ звучало, как правило, классическое: «А я не помню…». Но Нателла продолжала мучительный допрос (ей-то каково перелопачивать три десятка журналов в поисках фамилии студента!) и «конкретизировала»: «Так Буйнов или Шпагина?». И, в «условиях дефицита времени», от замороченного чехардой преподавательских лиц бедолаги-прогульщика порой звучало: «А я их путаю…». На что обескураженная Нателла уточняла: «Буйнова со Шпагиной путаете?!». И заливающийся зеленью стыда студент, осознавший, какую глупость он сморозил, продолжал все-таки упорствовать: «Ага!..» И вот с таким контингентом нужно было еще и проводить демонстрационные опыты! Сегодня их тема звучала так: «Окислительно-восстановительные реакции». Опыты, конечно, красивые – одни только цветовые переходы малиново-синатового раствора перманганата калия чего стоят! Тут и нежно-фиолетовая окраска в щелочной среде, и зеленовато-бурый осадок в нейтральной, и почти прозрачный, нежно-голубой цвет сильнокислого раствора. А классическая реакция термического разложения бихромата аммония! Когда изначально голубая конусообразная горка порошка бихромата, подожженная сверху риновым пламенем горелки Бунзена, начинала извергать фиолетовый «вулканический пепел» двуокиси хрома, образующей быстрорастущий конус «вулкана», а нагретый в его жерле воздух оранжевой, краснеющей при охлаждении на высоте полуметра струей, поднимался из раскаленной до зеленого свечения вершины! Но красота эта требовала и предварительной подготовки растворов и последующей уборки и мытья многочисленной посуды! А после лаборатории нужно было ещё набрать на компьютере объемистую докладную записку с перечислением названий и марок списываемого в этом семестре оборудования и реактивов с обязательным приложением обоснования расходных норм на этилгидроксид. Последнее было особенно тягомотным, ибо повторялось при каждом акте списания, хотя и так все прекрасно знают, что сумма объёмов этой жидкости, использованной для протирки оптики, приготовления растворов индикаторов и в других «научных целях» всегда меньше ее объёма, полученного на складе химреактивов. И причина этого давно открыта и зафиксирована даже в студенческом фольклоре: Как ни строг у вас учёт – Мимо колбы утечёт То, что душу так бодрит – Этилена гидроксид! Тягомотность возникала именно потому, что всем была прекрасно известна причина («подходи лишь только к ней не с анализом науки») того, за какие такие «коврижки» так любят именно кафедру химии стеклодувы, сантехники, механики, электрики, маляры, штукатуры, пожарные, сторожа и даже некоторые доценты и профессора с других кафедр, не имеющих доступа к «веселящей душу» жидкости с молекулярной массой 46 дальтонов, являющейся предметом особого учета и столь строгого контроля! И этот секрет Полишинеля требовали хранить как государственную тайну и дважды в год писать эти акты с расшифровкой расхода с точностью до миллилитра! Не иначе, как для каких-то лохов из ЦРУ, которым наше ГРУ подбрасывает эти отчеты (за отдельную, конечно, плату, пополняющую стабилизационный фонд) в виде «дезы» о высоком уровне трезвости в нашем обществе. И ведь ещё предстояло добраться до дома в плотном потоке моковских машин, ползущих со скоростью черепахи от одной пробки у светофора до другой или буквально толкающих друг друга на сужениях, возникших при проведении дорожных работ, затеянных «с целью повышения пропускных способностей магистралей» еще ранней весной и не оконченных до сих пор. А сугробы на обочинах? А мороз, от которого замерзает даже тосол, если в спешке или по незнанию при заливке не обратил внимания на его производителя (только импортный!)? Так что я прекрасно понимаю всю степень сегодняшней усталости Нателлы и тихонько (она спит очень чутко) крадусь на кухню и включаю чайник – без глотка крепкого чая мне не удастся закончить намеченную на сегодня работу. А её ещё много, хотя перед полетом нужно бы поспать хотя бы часа 4, а лучше – 5. Ничего, отосплюсь в самолете – только бы «заботливая стюардесса» не разбудила идиотским по несвоевременности предложением «выпить чашечку кофе»… Разбудила меня не стюардесса. Разбудил солидный, очень пожилой мужчина со следами спортивной – или военной? – выправки, с округлыми, несколько оплывшими чертами лица, обрамленного сверху остатками когда-то явно буйной шевелюры, который поднялся из-за стола, очень похожего на стол в кабинете Василия Васильевича и, шагая мне навстречу, сказал: - Ну, подставляй макушку, Мефодий! На мгновение промелькнуло это незнакомое мне лицо. Как было ясно видно вблизи – старческое, покрытое не желто-розовой, просвечивающей, а вышедшей на поверхность кожи зеленоватой сетью капилляров, и сверху раздался чмок поцелуя. Человек снова уселся в свое кресло, показал жестом, что и носитель моих глаз может сесть, и нетерпеливо сказал: - Давай, не тяни, показывай хабар! Левая рука Мефодия оттянула маренговый лацкан фланелевого пиджака (где же это я видел очень похожий оттенок совсем недавно?), а правая достала из внутреннего кармана небольшой предмет из хорошей пластмассы светло-серого цвета, напоминавший с первого взгляда приличную зажигалку. - На флэшку скинул, - сказал, ухмыляясь хозяин кабинета. – Правильно! Начальству – флэшку, а оригинал, небось, уже лежит где-нибудь в схроне? Грамотно, хвалю… В семейном, значит, нашенском архиве… А и пусть лежит… Вот стану мемуары писать «Записки кагэбэшного волчары» с подзаголовком «50 лет на страже Родины Слонов» - пригодится… Говорил он все это глядя мне в глаза, в то время как его руки сняли крышку «зажигалки» (там был разъем, а не ожидавшееся мною колесико для добывания искры), вставили предмет в ноутбук и начали бегать по клавишам клавиатуры. Когда на экране появилась «картинка», я без труда узнал в ней добычу ночного посетителя кабинета шефа – роспись «воздаяний» сотрудникам и «нужным людям». И пиджак вспомнил – Мефодия Филипповича, нового начальника нашей охраны, был этот пиджак. И понял я, что именно в этом пиджаке будет теперь ходить Тот, кто владеет Волей шефа и направляет курс нашего корабля – «Ипотеха»... О спаме в электронной почте, появлении у нас международной фотокорпорации, происхождении названия «Моква», кавказских сепаратистах, моих детских воспоминаниях, философском определении материи и физическом диапазоне видимого спектра, а также о получении Очень важного письма. Второй морок об отце и сыне. Две параллельные дороги Пройти нам в жизни суждено: Мы снисходительны – вы строги; Вы пьете квас – мы пьем вино. Смахнув очередную тревожную маяту, от которой остались смутные образы рисунка старческой кожи, фирменной зажигалки для трубок с боковым факелом и, почему-то, слоган эпохи Стального Вождя «Рассея – родина слонов!», я прихватил на кухне кружку с горячим чаем и отправился к себе в комнату. Так, теперь – проверка почты. И ответы на самые срочные письма. Кто нам сегодня пишет? Посмотрим… Пришло за день… Аж 49 писем! Неужели столько людей сегодня вспомнили обо мне? Нет, конечно! В основном все это спам, спам, спам… Вот предлагают дачные участки площадью «от гектара и выше», вот – приглашают принять участие в прибылях какой-то исландско-малагасийской фирмы, вот соблазняют узнать (всего-то за 100 лысорозовых!), как научиться зарабатывать 200 в день (обучение – трехдневное в неоловом конференц-холле гостиницы «Сиреневый закат» около бывшей ВСНХ с 12 до 18 часов, бесплатный кофе входит в стоимость обучения), вот – предложение за ту же сотню «розовых бутонов» оформить любой документ – от справки об успешном прохождении теста на беременность, до диплома нобелевского лауреата, при этом «конфиденциальность и бесплатная курьерская доставка в пределах Садового кольца гарантируются»… Какие-то письма на ябонском и иврайте, предложение «поднять голос своего гневного протеста против засилья олигархов» от «Международного комитета за равноправие всех форм собственности». Разумеется, и многочисленные призывы «приятно отдохнуть в обществе образованных пенсионерок без комплексов». Короче – спам, спам, спам – в «корзину» его, в папку «удаленные»! Однако, стоп! А это что за Ксения Максимова из ЭФОК? Не тот ли это самый ЭФОК, который, как сообщил мне недавно лучший знаток Его биографии Евгений Борисович Цивошвех из Тормасока, кормит последние десять лет нашего нобелиата? Что пишет эта барышня? «Сейчас нет необходимости посещать фотосалон для того, чтобы распечатать свои фотографии. Достаточно посетить сайт www.mkadr.ru , регистрируетесь, получаете доступ, на который Закачиваете фотографии, которые Вам нужны, указываете адрес для доставки и свой контактный телефон. С Вами связывается наш менеджер и уточняет необходимые детали. Вы утверждаете свой заказ и в течение трех рабочих дней Вы получаете свои распечатанные фотографии уже на ФОТОбумаге! Стоимость одной фотографии 10х15 – 6 рублей. Курьерская доставка по Москве 150 рублей». Забавно! Писала это – судя по стилю и небрежению к правилам грамматики - какая-то не очень грамотная особа. Даже в названии города допущена смешная опечатка – появилась столь нашумевшая в последнее время нелепая «Москва». И это вместо вполне осмысленного слова «Моква», которое ясно говорит человеку, для которого рассейский язык является родным, что город расположен в регионе с избыточной влажностью! Исстари эту особенность его обитатели знали, а потому и зафиксировали в ясном топониме, несущим информацию о природной влажности местности («мокрое» это место!), усилив и подчеркнув «мокроту» с фольклорной игривостью введением звукоподражательного лягушачьего слога «ква». Так кстати, когда-то и писалось это слово – «Мок-ква». И только во времена реформы рассейского языка, великий его преобразователь Николай Еремеевич Струйский II решительно сократил его на одну букву и, значительно облегчив произношение, придал ему новую экспрессию. И прав наш замечательный поэт Николай Уболотский, когда призывает нас помнить заслуги Николая Еремеевича перед рассейской словесностью: Ты помнишь, как из тьмы былого, Из блат взращенная Мок-ква, По воле Струйского второго Теперь есть Матушка-Моква? А у автора этого письма с детства знакомая «Матушка-Моква» вдруг совпала с печально известной карикатурной аббревиатурой «МОСКВА» - «Министерство Обороны Северо-Кавказской Вневедомственной Ассоциации», ибо неизбежно ассоциируется у грамотного рассеянина с недавно возникшей незаконной территориальной единицей в составе Рассеи – «НОСКВА» - «Независимая Особая Северо-Кавказская Вневедомственная Ассоциация». Особенно печально, что эта самая «вневедомственность» - просто неуклюжее прикрытие сепаратистских устремлений лидеров этого неконституционного образования. Это стало окончательно ясным (и обозначило реальную опасность!) после создания ими так называемого «Министерства Обороны»… Но, если простить эти неизбежные «издержки становления» в столь далекой лингвистической среде, можно только приветствовать появление у нас ЭФОКа. Значит, Его бизнес стал транснациональным и за последние полвека прошел путь от любительства, ограниченного «щёлканием» друзей и сослуживцев, до большого дела, до создания корпорации, которая вот уже и у нас в Мокве открыла двери своих салонов и офисов. Помню, каким ментальным шоком отозвалось открытие на Пушкиновой площади первого «Мак-до-Донышка», уютные заведения которого я потом встречал почти в каждом крупном рассейском городе. Они спасали мой желудок от необходимости глотать пачками активированный уголь и «Немезид-Форте» после «употребления вовнутрь» результатов жульнической изобретательности местного общепита, таких как котлеты из позавчерашних отбивных и беляши с мясом неизвестных зоологии животных. А потом пришли и «Samsud», и «Mersebes», и «Kefal’» и многие другие, сделавшие наш быт если и не цивилизованным, то, по крайней мере, настолько похожим на цивилизованный, что, попадая куда-нибудь на юг, например, на океаническое побережье Порт-у-Галлии, на ее замечательные пляжи в Аль-Гарви, или, наоборот, на север, на берега нордических фиордов, уже не удивляешься ни чистоте их, местных «Мак-до-Донышков», известной тебе ещё по башкирскому Салаваю, ни ароматному табачку «Cherry Ambrosia», давно знакомому по тёмно-зеленым благородного вида пачкам, в которые упаковывают его в подмоковном Солнцеграде на улице Зеленая, дом 69-а. Теперь вот пришла пора и цивилизованного фотосервиса. Но то, что она пришла к нам именно с ЭФОКом от создателя теории, открывшей многомгновенный мир Мультиверсума, который стал всеобщим достоянием после его интерпретации Дж. Барбуром, безусловно символично. Весьма, на мой взгляд, точно эту интерпретацию иногда ещё называют «фотоальбомной», имея в виду, что Мультиверсум по Барбуру – это собрание «мгновенных состояний» мироздания, как бы его «фотографий», движение и время в котором возникают из-за перемещения нашего сознания от кадрика к кадрику по законам логики и причинности благодаря таинственному дару – нашей свободе воли. Символично также, (и мне, рассеянину, не скрою – приятно!) и то, что термин «фотография» в современную философию ввел наш соотечественник Владимир Ульянов-Ленин в своей знаменитой (и как бы ни относиться к ее содержанию – действительно эпохальной по своему влиянию на деятельность нескольких поколений отечественных философов) книге «Материализм и эмпириокритицизм», к появлению которой приложили свою руку и евруй Дегорин, и итальянец Муссолини… Я принадлежу к тому поколению, которое входило в жизнь в окружении деревянных «Моквичей» на тихих и извилистых, но вполне для них «проходимых проезжих частях» Арбатовских переулков, суточных щей «м.б.б.м.» в рабочих столовых, фотоаппаратов «Юный КГБэшник», заправляемых 35-мм фотопленкой «Свема» чувствительностью 45 ед. ГОСТ. А голова была забита цитатами из ещё «тёпленьких», прямо из-под печатного станка, неолово-синатовых томов 5-го издания 55-томного ПСС В.И.Ульянова-Ленина и, особенно, из его 18 тома, где дано «классическое определение материи». Для миллионов моих сограждан (а тираж его был именно такой, чтобы «в каждую семью»), немедленно после получения каждого очередного тома окунавшихся в мир ленинской мысли, выяснилось, что согласно этому определению материя - это не «вода, земля, огонь и воздух», как думали древние греки и я в «пионерском» своем детстве, а «философская категория для обозначения объективной реальности», каковая реальность, оказывается, нами непрерывно фотографируется таким хитрым и скрытным образом, что никак не зависит от нашего с ней взаимодействия в ощущении… Но - «две параллельные дороги пройти нам в жизни суждено»! Теперь вокруг меня «Форбы», «Мерсебесы», закусочные «Мак-до-Донышка» и вот даже фотосервис от ЭФОК («Эвереттовская фотокорпорация», как окрестили у нас знаменитую америкосскую фирму MPCE), а в мозгах ясное понимание того, что тот мир, который я ощущаю, чутко реагирует на каждое движение моей мысли и предоставляет ей возможность материализоваться во множестве вполне реальных ветвей-универсумов, порождаемых как раз этим взаимодействием! Реальны – пусть и недоступны в сиюминутных моих ощущениях – миры, где я сам прозвонился с утра в Амгарск и убедился в том, что их технологи и без нашей помощи справились-таки с переработкой сернистой бякости вполне успешно; миры, в которых Василий Васильевич с Ильей Стефановичем приобрели себе недвижимость не на теплом море, а в районе обильного рыбой и комарами озера Целихер или уютного городка с ласковым названием Емельянов; миры, где мы все – я, Татьяна Борисовна, Елена Петровна, Лидия Федотовна, Бурый и остальные достопочтенные служащие «Ипотеха» не ходим в кабинет за «воздаянием», а получаем ежемесячно на банковский счет твердую зарплату в полновесных рублях. И покупаем себе на нее ежегодно перед поездкой на отдых к теплым морям новые нейлоновые трусы – кто синатовые, кто – зеленые, каждый по своему вкусу и объему кошелька, хорошо известному налоговому инспектору. И этот инспектор (а также милиционер, трамвайный контроллер и даже вахтер в студенческой общаге!) не снится в ночных кошмарах, а является просто вежливым и предупредительным клерком, как и остальные государственные чиновники. Не менее реальны даже такие «нелепые» с обычной точки зрения ветвления Мультиверсума, в которых люди видят окружающее не в привычном нам красно-оранжево-желто-зелено-сине-фиолетово-риново-неолово-синатовом спектре, а в каком-нибудь укороченном, скажем, с длинноволновой стороны. И не заучивают первоклашки, как делал и я в свое время под строгим взглядом Валентины Матвеевны, моей первой учительницы, классическую фразу – «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан раньше, нежели сосед». У них другой вариант – без лукавой концовки и живут они в мире без красок теплового излучения, и не укорачивает в их мире мороз юбки идущим по заснеженным тропинкам барышням, поскольку нет в этих ветвях-универсумах увеличения прозрачности материалов с понижением температуры… И умирает столь любимая нашими поэтами метафора о «морщинах чувств на лицах тех, кто мыслит», в которой «морщины» - это живые узоры капиллярной сетки лица, меняющие свое наполнение кровью, температуру и цветность в зависимости от эмоционального состояния человека. Она превращается в печальную банальность о времени, накладывающем морщины-рубцы, физические складки на нашу кожу… Но, впрочем, куда это меня занесло? «Цигель, цигель – ай лю-лю!» Поторапливайся, а то кирпич на голову свалится! На часах уже за полночь, завтра рано вставать, а я ещё и всего почтового ящика не проглядел!.. Так… Дальше… Опять спам… И снова спам… Стоп! Не торопись, а то, как говорится, «одно неверное движение мышью, и ты - убийца важного e-mail’а»! Вот это письмо, кажется, не просто важное, а неоценимо важное!.. Значит, книга всё-таки дошла до Него! И, может быть, Он даже просмотрел её? От радости я готов был исполнить «Хабанеру» на саксофоне! И исполнил бы, если б имел саксофон и умел на нем играть… Я невольно снял руки с клавиатуры и взял со стойки письменного стола новую трубку. Кажется, я действительно «поймал золотую рыбку» в этом мутном потоке спама… Однако муть, слетев с экрана, снова слепила мои веки. И снова перед глазами роскошный кабинет с ноутбуком на столе. Я осознал, что передо мной – не «список Шиндлера», спасший столько жизней, а, скорее, его антипод – проскрипционный список (Разумеется, «для служебного использования бандюками и конкУрентами»). Это была уже не копия «оригинала» - листочка Василия Васильевича, а результат работы Мефодия и его отца – расшифровка шефовских каракулей. На экране дисплея светилось: Для Мефодия И.С. – Илья Стефанович Давыдов Иг.Пет. – Игорь Петрович Цигнус Е.П. – Елена Петровна Алексеева Тат. – Татьяна Борисовна Буранова Лена – Елена Никоновна Жаворонкова Уч. – Иосиф Самуилович Мейтес Бур. – Сергей Иванович Беремшин Мои Ал.Пет., Амг – Александр Петрович Коновалов, Амгарск. Волгл. – Василий Карпович Старовыйнов, Волглый. Список был явно длиннее, но то, что было ниже, не помещалось на экране ноутбука. Верхнюю часть списка комментировал Мефодий: - Да, твой Борис действительно профессионал и слежки, и анализа. Ты не волнуйся – цифры я убрал, когда с Борисом «рекбус» этот разгадывали… А он – молодец. Все-то сегодня разглядел! Вот что он мне доложил. С утра, ни свет ни заря, примчался Илья Стефанович, что бывает, когда его карману что-то угрожает или светит – этот зря суетиться не будет. А потом этот их «добрячок», Игорь Петрович, раза три надолго покурить выходил. Тоже явно чего-то ждал и, вероятно, цапался с Василием Васильевичем – в последнее время, говорит Борис, у них явно что-то не ладится, так они друг на друга порой взглянут, что хоть святых выноси… А сегодня у них явно какое-то серьезное дело было – «добрячок» выходил с таким видом, что было понятно – ходы он в разговоре обдумывает, и пахнет там крутыми бабками… Ещё «бизнесменами» себя считают, а все секреты на морде лица как на тарелочке… Кстати, этот Цигнус действительно знаком Борису по «Делу гения», в котором он у тебя работал. Борис ведь продолжает его отслеживать – профессионал все-таки. Интересное, говорит дело, жаль, что 5-е Управление накрылось... А потом эта их бухгалтерша, Елена Никоновна, из банка пришла. Она раз в неделю туда по утрам ходит, Борис это уже давно зафиксировал, а сегодня ещё и по их селектору об этом орали так, что у Бориса и без спецаппаратуры в ушах звенело… Ну, а когда она вернулась, да не одна, а с Бурым, который тащил за ней этот «секретный кейс», Борису все понятно стало – дележка будет. Он и позвонил мне тут же, пригласил посмотреть да прикинуть – «наши» это клиенты, или все-таки мелкота, «щеки дуют»… А что б не прошмыгнула вся эта их команда на обед - дверь закрыл, якобы девицам из фирмы по продаже этой испанской халтуры по 100 «лысых стариков» за штуку «сквозит и дует». Мы, ты уж прости меня, отец, их давно пасем и имеем не только натурой, но и в их деле долю... Ну, а когда я сам посмотрел и на команду, и на «папу» ихнего, Василь Василича, да послушал, о чем они в кафешке говорили (там у меня давно «жучок» стоит) – я однозначно понял, что это «наши люди». Тут Мефодий замолчал, что-то обдумывая и припоминая, а потом как-то значительно и даже боязливо добавил: - И «твои», конечно… Продолжил он прозаически: -Ну, оставил я Борису лазерный ультрасинатовый детектор валюты – тот, в виде авторучки, который у нас еще в 5-м Управлении был… «Просветил» он Цигнуса… А тот ему ещё и сам помогал – из портфеля все вытряхивал! Не хило он нес… И тут же продолжил уже весело: - Ну и дурачок же был этот горлопан Аркадий Ильич, мой предшественник, что не «окучил» такой «Химтранзит» раньше! Они же ведь только сегодня растащили по своим карманам 19900 лоллардов! Там от двух пачек только сотня в конверте для уборщицы осталась… Да ведь не все ещё и получили – у них в командировке пара «волчар» овечек щиплет… А судя по тем цифрам, которые должны получить «твои»- тут ещё нулик приписать нужно!.. Да и себя Василий Васильевич в писульку эту, естественно, не включает – дескать, два пишем, а «нуль на ум берем, сам знаю кому»! Борис говорит, что он этот «секретный кейс» в руках у Бурого уж раза два в месяц видит наверняка… Да уж точно – дурак! «Друг Аркадий, не говори красиво!» А ему на матершину только мозгов и хватало. Вот только как бы их покрепче взять, - думал я? Понятно, что не поодиночке, поодиночке они все-таки мелкота пузатая, с «общины» нужно долю брать... Но как конкретно подступиться? А тут ты звонишь! А почему, кстати, именно сегодня? Отец Мефодия улыбнулся и, не отвечая на прямой вопрос, задумчиво произнес: - Ты помолчи теперь, да посиди тихонько. Чаю дать? Мефодий, вероятно, обиделся, и буркнул: - Если только шотландского. И, по американовски - с содовой. Отец нахмурился шутливо: - Без меня – ни-ни! А я сейчас выйду на минутку. У меня ведь, кроме Бориса твоего, и поумней аналитики есть. Я тут сейчас переговорю кое с кем, а потом – по рюмке чая и посмотрим, что дальше делать… О моем долге перед референтами Эверетта, о его корреспондентах «ближнего круга», о чудесном его спасении в 82 году, о «квантовом самоубийстве» Тегмарка и привычке употреблять «на троих» Дж.Алфинзбурга, а также о моем удивлении чудесами Интернета и благотворном влиянии классиков на процесс умственной деятельности. Третий морок об отце и сыне. Созданье ума Эдисона Явилось в пустыне лесной, И шлет аппарат телефона За сотни верст звуки волной Да, на сей раз «отключка» была глубокой. И тягостной. Борис-рыбак почему-то привиделся. Но только не такой глупый и совсем не добрый. Что он говорил – не помню. Но что-то явно умное и опасное. Вот, даже трубка из рук выскользнула и упала на «ковровую» дорожку, на которой от выпавших угольков осталось несколько черных оплавленных пятен. Что я теперь скажу Нателле в ответ на ее немой укор, когда она их увидит? Пожалуй, так же молча виновато опущу глаза... Надо бы уже ложиться спать… И я бы так и поступил ещё вчера. Но сегодня… Он мне написал письмо! Честно говоря, я не ожидал, что Он ответит! Все-таки 75 лет, мировая слава «нобелевской пробы», огромный бизнес… И спама у него, наверное, столько, что десяток референтов целыми днями только и делают, что, выражаясь на языке современного сленга, почти перешедшего в нормативную лексику, «фильтруют базар». А ведь положили эти референты мое письмо в его личный почтовый ящик! Я – их должник теперь. Баночка зернистой икорки им от меня и бутылочка «Смирновки» - передам лично, как только представится случай… Положили-таки на тот адрес, который известен только самому близкому кругу «своих». И свободно пишут по нему только те, для которых он по-прежнему «старина Хью», как для Чарли Мизнера или Гарви Арнольда, действительно старых (и в прямом и в переносном смысле!) приятелей ещё по аспирантуре в Принстоне, симпатичный наглец Дон Рейсслер, с которым они сдружились лет 35 тому назад, после памятного обоим собеседования в Лямбда-корпорейшн, куда Рейсслер пришел наниматься на работу и сразу «нахамил» будущему шефу, признавшись, что «забросил куда подальше» после прочтения ту «сумасшедшую» статью 57 года, которая принесла-таки своему автору и будущему шефу Рейсслера Нобелевскую премию! Пишут, конечно, некоторые коллеги-нобелиаты, удостоенные этой награды вместе с ним, особенно часто тот симпатичный русский – Джорж Алфинзбург, который - после «третьей-не-последней!» - на лауреатском банкете в Стокгольме демонстрировал, как нужно «правильно» выговаривать это общепринятое международное название всех тех, кто живет на территории от Немана до Урала. «Нужно говорить не «русский», а «рассеянин»», – поучал Джорж Алфинзбург. (Чем-то он очень похож на Дона Рейсслера. Может быть, столь же искренней живостью реакции?) И, конечно, писал бывший шумный сорванец Оливер, в детстве так мешавший ему сосредоточиться на чем-то серьезном дома… После какого-то пустячного семейного скандала ушедший «бродить по свету», а потом столь сказочно вовремя вернувшийся в рубище блудного сына 19 июля 1982 года «в отчий дом», чтобы успеть отвезти его, умиравшего в одиночестве от сердечного приступа, в Фэрфеггс, где врачи сумели «сделать невозможное» и вытащить из «объятий костлявой»! Впрочем, согласно теперь почти признанной трактовке той самой «нобелевской теории» его учеником Максом Тегмарком, ему не было суждено умереть ни тогда, летом 82, ни когда-либо в будущем. Ни ему, ни любому из ныне живущих – согласно Тегмарку мы не умираем, а только переходим из одной ветви Мультиверсума в другую. Правда, оставляя при этом в покинутой ветви и всех своих скорбящих близких, и тайно радующихся недругов. Но это уже не наши проблемы… Эту идею – «созданье ума Эверетта» - он сам подсказал Тегмарку и предложил подумать о методах ее проверки. Это была его единственная «зацепка» в поисках «решающего доказательства» справедливости своей теории в рамках существующей научной парадигмы. Принципиальной преградой нахождения такого доказательства было то, что ветвление подразумевает разные исходы у одинаково поставленных экспериментов, а парадигма требовала «воспроизводимости результата опыта». И в результате в сентябре 97 года появилась теперь почти классическая статья Тегмарка о «квантовом самоубийстве». Метод, придуманный Тегмарком, элементарно прост и, в то же время, абсолютно неприемлем для любого нормального человека. Тегмарк предложил всякому, сомневающемуся в теории Эверетта, взять пистолет, сесть в кресло, и… «пустить себе пулю в висок»! И вот тут-то «Фома неверующий» обнаружит, что произошла осечка… Пусть он и дальше, советует ему Тегмарк, продолжает свои попытки. Интересно, - спрашивает Тегмарк, - на какой по счету осечке он поймет, что это его «везение» - не невероятная цепь случайностей, а проявление законов Мультиверсума Эверетта? И как он будет оправдываться за свое неверие перед собственной совестью, когда представит себе, сколько безутешных вдов и злорадствующих заемщиков он оставил «позади себя» в ходе этого эксперимента? Любопытно, кстати, что это следствие самого первого представления о мультиверсуме оказалось столь важным и легко выводимым, что впоследствии многие, знакомящиеся с эвереттикой, извлекали его самостоятельно на самых первых этапах ее освоения, раньше, чем успевали извлечь подробности из первоисточников. Вспомнилась в связи с этим весьма примечательная книга ростовчанина А.Майбороды «Сказание Големов о духе и материи», где эта идея является одной из «скелетных костей» серьезного философского трактата. А реальный его, Эверетта, спаситель «в этом мире», его сын Оливер, и сегодня колесил по миру с гастролями своего знаменитого ансамбля «Водяные змеи». Он по-прежнему бывал дома, в Штатах, не чаще, чем там бывает рассейский Президент или, как называет эту дипломатическую персону одна из русских - скьюзи, «рассейских»! - подружек Оливера – «демократствующий царь». Очень такое определение сложившейся в Рассее политической системы забавляло Эверетта. Как разъяснил ему знаток русского языка Барбур, кроме политической, была здесь и языковая тонкость – правильнее по-рассейски было сказать «демократический». А Ольга – так звали эту яркую девушку из новой Рассеи - сказала хлёстче… Острый взгляд и язычок были у этой подружки Оливера! И, именно от него, Того Самого Хью Эверетта Третьего, Нобелевского лауреата «миллениумного» года, было это письмо, лежавшее в моем почтовом ящике вместе с десятком достойных только «дилейта» спамовских писулек! Я так ждал этого письма и так боялся не получить его вовсе, что, когда наконец обнаружил его в своем почтовом ящике, долго боялся даже скопировать текст в электронный переводчик (я слабо владею аглицким и без переводчика понимаю только общий смысл) – мне все казалось, что я нажму «не ту кнопку» и письмо навсегда исчезнет в каких-то электронных дебрях. Но, преодолев нелепый страх, я был вознагражден за это, как говорится, «сторицей» - письмо оказалось чрезвычайно информативным. И мне захотелось тут же сообщить кому-нибудь, что Сам Эверетт написал мне! Но кому я мог это сообщить? Разбудить среди ночи Василия Васильевича? Позвонить Илье Стефановичу?? Или, может быть, «обрадовать» такой новостью нашего вахтера Бориса??? (Последнее показалось мне самым забавным, хотя, если рассуждать логически, из всех моих знакомых именно он в это время и не должен был спать). Как это ни было мучительно, пришлось смириться с «прозой жизни» и последовать совету великого нашего поэта Феодора Тамчева: «Молчи, скрывайся, и таи, и чувства и мечты свои… Покрепче двери затвори и в одиночку пир твори!». Конечно, классика не следует понимать буквально и хавать батон краковской полукопченой, укрывшись одеялом, как это делал на военных лагерных сборах во времена моего студенчества один из наших курсантов, получив из дома посылку. Но, согласитесь, с «пищей духовной» - совсем другой случай! Письмо Эверетта – это не колбаса из посылки! И для его лучшего «усвоения» можно – и нужно! – обеспечить себя комфортным одиночеством. Что я и сделал – погладив пару раз заросшую мягкой шерстью голову Джима, пришедшего за очередной порцией ласки, выгнал его из комнаты, закрыл дверь и уже хотел было погрузиться в текст, который выдал мне мой компьютер, но очередная волна сна-морока заволокла глаза… Все тот же кабинет. Темно – только сеточка «вечных капилляров» мерцает и переливается всеми оттенками от красного до желтого на экранах век. Глаза закрыты. Теплое блаженство разливается по телу от скользящего по пищеводу глотка великолепного виски. И добродушный голос: - Ты почему эту американовскую бурду «Бурбон» смакуешь? Ведь вонючка первостатейная, сто очков паленой табуретовке даст! Выпендрежь все это, Мефодий! Но если уж пьёшь виски – бери настоящий шотландский товар, а не американовский самопал. Ладно, есть у меня одна бутылочка, я тебя в следующий раз угощу… В открывшемся полумраке «знакомые все лица» - отец Мефодия, лежащие на столе руки в рукавах памятного по первой встрече твидового пиджака Того Кто теперь владеет Волей шефа, бутылки коньяка и виски, две рюмки и ноутбук. Отец слегка размяк от рюмки «Курвозелья» и говорит медленно, с паузами: - Теперь скажу, почему именно сегодня… Месяца два назад твой Васёк из «Химтранзита» был в одной конторе, которая сегодня всех поучает, как нужно «правильно» деньги делать, что б, значит, и «волки сыты» - налоги, то есть, и «овцы целы» - в «секретном кейсе», значит, что-нибудь осталось. Крутые это ребята – они и в правительство бумажки и доклады разные строчат, да и наших в «Бридже» их фантазии почему-то интересуют… Так вот, как раз в это время там был и мой пока ещё патрон, Гусиевич. Он слышал, как расшаркиваются перед твоим Васьком тамошние боссы. Сам Мигунчик его «шефом» называл!.. А мой Васька сразу узнал – они вместе в «керосинке» учились, «твой» - на старшем, а «мой» - на младшем курсе. И было там между ними какое-то смутное дело, мне неизвестное, как говорят, «то ли он украл, то ли у него украли», то ли девку не поделили – не знаю, со свечкой не стоял… Но только после этого дела «мой» «твоего» на дух не переносит!.. Говорит, что «на одном гектаре с…ь с ним не стал бы»… Вот до чего у них дошло! Да развела их судьба и, почитай, больше сорока лет не виделись… Или почти не виделись?.. Тоже темный вопрос… А в большой игре чем лес темней – тем злее партизаны… Нужно бы прояснить… Ну, это сейчас неважно! А тут такая встреча! И велел он мне «поглядеть» да «понюхать» - кто же это такой теперь, твой Васек, что в такие конторы «дверь ногой открывает»… Ну, я тебя и сунул в этот НИИМотопром охраной ведать… Тебе от этого польза двойная. Во-первых, такой «огород»!.. Там даже дурак окучит… Не сердись, не про тебя я это, ты и в Сахаре свой ручеек откопаешь… А во-вторых, пора тебя «на лавку» ставить… Стар я стал… Сдавать дела пора… Но пока по-отцовски, да по-семейному, поучить тебя хочу… Вчера сорока на хвосте принесла, что Старовыйнов в Мокву собрался. А у него с «Химтранзитом» давний контракт, ещё со времен, когда он «Ипотехом» был. И не исключалось, что эти Васи сойдутся «вась-вась». А Старовыйного зацепить – пол-Волглой командовать будешь… И мой человек был в гостях позавчера у твоего «Васи» - нюхал воздух. Очень его допек там какой-то Цигнус дурацкими техническими вопросами на своем птичьем языке. Ведь у моего человека образование – три класса школы КГБ… А как там пахнет Карпычем, он так и не узнал... Вот я и решил тебя побеспокоить. И документики, что ты сейчас принес, про многое сказали – там на столе лежит проект договора Василича с Карпычем, из которого откат как на ладошке виден… А еще ты мне и Петровича из Амгарска открыл – жирный омуль оказался. И в «Юкоси» теперь «подземный ход» будет… Из кармана отца раздалась мелодия «Тореадора». Он вынул мобильник и отрывисто сказал: -Да, слушаю… Письмо? Какое ещё письмо?.. Ладно, сейчас подойду. Он встал, взял со стола бутылку «Курвозелье», поставил ее в бар, незамысловато замаскированный под книжный шкаф, кивнул на оставшуюся бутылку и, усмехнувшись, со словами: - Не увлекайся, Мефодий! Я скоро буду, - направился к двери. Об ответе Эверетта на первый вопрос моего письма, подковерной борьбе в Нобелевском Комитете, слабом знании правил деления академиком Алфинзбургом, о том, куда нобелиаты девают деньги, а также о роли программы «Время» в определении элементной базы квантовых компьютеров. Последний морок об отце и сыне. Ты, я знаю, силен: ты бесстрашно сносил И борьбу, и грозу, и тревоги,- Но сильнее открытых разгневанных сил Этот тайный соблазн полдороги… Дальше ж, путник!... Да что же это! Никак, и вправду закемарил? В голове плыли какие-то обрывки разговора и фамилии: Мигунчик, Гусиевич, Старовыйнов… И после таких-то моих снов кто-то ещё смеет утверждать, что я мало думаю о работе?! Да провались она в Тар-Тарары! Что, у меня других интересов нету? Вот ведь светится на экране моего монитора письмо от Него Самого! Я отправил ему свою книгу два месяца назад, а третьего дня написал письмо, в котором спрашивал – дошла ли бандероль? – и задавал три «предметных» вопроса. По поводу книги он написал, что получил ее, стандартно поблагодарил «за оказанную любезность», сообщил, что успел только пролистать ее и пообещал внимательно ознакомиться с «небезлюбопытным (так я перевел его оборот «not deprived curiosity») ее содержанием, если обстоятельства позволят ему уделить этому достаточно времени». Первый мой вопрос был достаточно традиционным и задан без особых надежд на существенную информацию – просто «для разгона». Сформулировал я его так: «Что было самым приятным для Вас, когда Вы узнали о присуждении Вам Нобелевской премии?» Однако ответ оказался гораздо более содержательным, чем я предполагал. Эверетт написал, что он узнал об этом факте - «тайном соблазне полдороги» для всякого ученого, ибо такая награда отделяет ветвь восходящую от нисходящей на научном пути - из официального звонка из Стокгольма. Потом, уже «по своим каналам», он выяснил обстоятельства обсуждения этого вопроса в Нобелевском комитете. Оказалось, что оно проходило в острой «подковерной» борьбе экспертов и членов Нобелевского комитета, весьма «по разному» относившихся и к месту его теории в современной физике, и к нему лично. Как выяснилось, у него был очень сильный конкурент в борьбе за премию – Джим Килди, изобретатель и создатель первых «интегрированных микросхем». И при обсуждении страсти кипели фактически вокруг вопроса о том, что вызвало наибольшее ускорение компьютерного прогресса – «синица в руках» в виде интегрированной микросхемы Килди, или «журавль в небе» предсказанного на основании теории Эверетта квантового компьютера? Узнав об этой закулисной стороне «премиального процесса», Эверетт, как он выразился, испытал особое удовлетворение, поскольку, как он считает, это продемонстрировало «победу той точки зрения, что плодотворная идея все-таки важнее, чем необходимые для ее достижения средства». Это отразилось и в том факте, что, хотя формально премия, «посвященная» именно компьютерному прогрессу и его творцам, была присуждена троим – «русскому» физику Дж.Алфинзбургу, «немцу» Герберту Креммеру и ему, Эверетту, но делилась она не поровну, его доля премии была не 1/3, а ½, Алфинзбург и Кремер получали по «четвертушке»! Хотя этот славный русский и высказался в своем застольном спиче на банкете в духе старины Рейсслера – он, дескать, рад тому, что Нобелевский комитет не только знаком с рассейским менталитетом и фольклором, но и действует в его традиции – делить любимое дело «na troih» (именно такой транскрипцией воспользовался Эверетт и в письме ко мне). (А мне кажется, что Алфинзбург совершенно точно подметил глубокое проникновение Нобелевского комитета именно в рассейский менталитет – любимое дело делить на троих поровну, а оплату за него – «по понятиям»). Мимоходом Эверетт отметил, что, разумеется, его вовсе не интересовали в данном случае деньги (вся полученная в качестве премии сумма была переведена Эвереттом в международный благотворительный фонд «Добрый самаритянин», который давал субсидии тем ученым, кто добровольно отказывался от сотрудничества с военными ведомствами своих стран). Таким «неравноправным» решением Нобелевский комитет подчеркнул, что будущее – за квантовыми компьютерами, идея создания которых зиждилась на его, Эверетта, гипотезе, изложенной в той, давней, 1957 года статье. А будут ли они «овеществлены» на любимых алфинзбурговских и креммеровских полупроводниках, используют ли для них интегрированные микросхемы Килди или новейшие ябонские разработки, вопрос, конечно важный (ведь удостоились же Нобелевской премии Алфинзбург и Креммер – создатели именно эффективной материальной базы компьютеров!), но, всё-таки, «технический». «А что будет являться «физической базой» настоящего квантового компьютера, покажет время», - писал далее Эверетт. («В 21 час»,- машинально подумал я). Завершал свой ответ на первый мой вопрос Эверетт все-таки не на мажорной ноте. «Хотя решение Нобелевского комитета и признало ценность моих работ 54 – 57 годов, но как мне кажется, оно сильно утрирует прикладные аспекты той проблемы, решению которой они посвящены». Понятно… Эверетт все-таки был разочарован тем, что в его теории увидели прежде всего прикладную значимость – как основание для создания квантовых компьютеров. А главный физический и мировоззренческий ее смысл – открытие реальности многомирия, выявление нового гносеологического объекта невообразимой сложности – Мультиверсума – остался как бы «в тени». Это не было чем-то необычным в истории Нобелевских премий. Ведь и главные достижения Эйнштейна, принесшие ему мировую славу – СТО и ОТО - не удостоились внимания Нобелевского Комитета. Но понимание того, что Нобелевский Комитет не является «Абсолютно Совершенным Ценителем» не облегчало душу и я понимаю, что психологически даже такая награда как «нобелевка» может оказаться (как это и случилось в данном случае) большой бочкой меда с маленькой ложкой дёгтя… Трубка (слава Богу – пенковая, а не электронная!) снова погасла, но я снова заставил ее работать. Не ленись! «Ещё немного, ещё чуть-чуть», - напел я сам себе в манере Циперовича и решил переходить к рассмотрению ответа на мой второй вопрос… Впрочем, этому помешало то, что кто-то потряс меня за плечо, и требовательно произнес: - Мефодий! Не спи, никогда не спи на службе! А ты здесь не у тещи на блинах, а в кабинете шефа безопасности группы «Бридж»! Я открыл глаза и тут же «передал» управление и ими, и всеми частями этого грузного тела Мефодию, облаченному в столь ладно сидевший на нем темно-неоловый габардиновый костюм, оставив себе только возможность «параллельно обрабатывать» слуховую и зрительную информацию, поступавшую к нему из окружающего мира. Отец критически осмотрел стоящую на столе бутылку, но повода для критики не нашел – уровень жидкости в ней остался ровно на той же отметке (у начала этикетки), каким он был при нашем расставании. Сколько прошло времени – пять минут? полчаса? – я действительно не представлял, поскольку уснул, как только за отцом захлопнулась дверь. Отец сел на свое место и замолчал. Было видно, что и он устал уже настолько, что только невероятным усилием воли держит себя на границе этого мира, балансируя на грани сна и грез. И граница эта не была «на замке» - на краткие мгновения и его глаза как будто отключались, и, казалось, поворачивались куда-то внутрь себя, обращаясь к неведомым просторам невидимых извне горизонтов. И с кем он там общался – Бог весть! Однако отец собрался с силами и заговорил вполне спокойно: - Значит, так! Борис твой действительно молодец! Ты ему нулик припиши в платежную ведомость… А лучше не марай казенной бумаги – не поймут тебя в бухгалтерии вашего НИИМотопрома… Ты лучше передай ему конвертик… Разумеется, без марки, но не забудь сказать, что это от меня! А за что ему такая милость, я тебе скажу. Борис, после того, как нашу главную тему прикрыли, а нас, почитай, на улицу выбросили, не бросил ею заниматься даже тогда, когда судьба заставляла его ради куска хлеба буквально быть на побегушках – одно время он кормился на зарплату курьера в какой-то коммерческой шарашке. А он, между прочим, к.ф-м.н! И не липовый – на мехмате защищался! Компьютер с Интернетом у него, конечно, давно был – ещё я это дело в Управлении пробил, чтобы у каждого, значит, аналитика и дома имелось оборудованное рабочее место. И он работал дома – отслеживал свой сектор. А я, попав в «Бридж», тему эту снова оживил – Гусиевич мужик не глупый и понял, что и в бизнесе от параллельных миров да «летающих тарелок» бульон может оказаться покрепче, чем от яиц вкрутую… Много денег он, конечно, не дал, но группа у меня тут сидит, и Борис с ними связан – обмениваются информацией. Борис-то ведь рыбак «по нутру» - он и рыб и души человеков ловит с азартом. Ну, и я ему на «прикормку» приплачиваю… Он эти деньги проводит в семейном бюджете у своей мегеры как «вырученные за продажу рыбы». А сам порой сутки с моими ребятами от компьютера не отходит… Так вот. Борис сообщил, что некто Цигнус – да-да, тот самый, из «твоего» списка! - весьма упорно лезет в «нашу тему». А узнал он об этом из болтовни с ним самим и сотрудниками твоего Васька. Цигнусу сбросили наш фирменный вирус и поставили его компьютер под контроль. И сегодня стало известно, что Сам вступил с ним в переписку! И именно сейчас Цигнус это письмо вскрыл и работает с ним. Конечно, это только первый контакт, так сказать, обмен любезностями, но мои спецы считают, что можно ждать здесь важных результатов. И будет тут на нашей улице праздник! Я думаю, однако, что нам-то с тобой пока тут делать нечего, и я, как старший по званию – кто здесь может быть главнее генерала армии? – приказываю: «бери шинель, пошли домой»… Отец посмотрел на стоявшую на столе бутылку, на меня – внимательно! – и добавил: - Однако в «параллельные миры» нам с тобой пока рановато… «Есть у нас ещё дома дела!». И решительно скомандовал в свой «матюгальник», который, как оказалось, был у него вмонтирован в наручные часы: - Дежурного водителя – к подъезду! Об ответе Эверетта на мой второй вопрос, плате за бестактность, рассейком фольклоре в аглицкой транскрипции, а также о некоторых особенностях морфологии членистоногих. Квантовый морок. С утра до вечера во мгле, Ваш друг сидит, еще не чесан, И на столе, где кофь стоит, Меркюр и Монитер разбросан… Странное это было ощущение – реальность не пропадала, а как-то почти зримо слоилась, я осознавал ее множественность как бесконечное разнообразие карточного пасьянса, столь любимого мною «Солитера», каждый раз раскладывающего передо мной одну и ту же колоду в столь различных сочетаниях. Кто и как ее перемешивает – неведомо, но вот собирать всегда нужно мне, сообразуясь и с правилами игры, и со своим видением ситуации. Сейчас у меня в голове от очередного морока осталась только какая-то дикая картинка – наш охранник Борис в солдатской шинели, с удочкой в руках, сидит на плечах улыбающегося Эверетта, стоящего с неизменной своей сигареткой по левую руку от Нильса Бора… Картинка эта не исчезала из памяти, но происхождение ее было понятно (кроме, конечно, комической фигуры Бориса) – она была впрямую связана с моим вторым вопросом к Эверетту. Этот второй мой вопрос был очень для меня интересным, но – каюсь! – абсолютно бестактным. Я интересовался визитом Эверетта в Компетентинг в 1959 году. Я довольно бесцеремонно спрашивал у него: «Что же все-таки сказал Вам Нильс Бор во время Вашей с ним личной встречи весной 59 года?». Подтекст у вопроса тоже был не слишком приятным для Эверетта – меня интересовало, почему он после того разговора столь надолго оставил физику? Эверетт не стал скрывать своего раздражения моей неуклюжестью. Он прямо написал мне, что не считает возможным обсуждать с кем бы то ни было эту давнюю историю. «Но, - писал далее Эверетт, - как сказал однажды (совсем по другому поводу, но очень метко, потому и запомнилось) мой ученик и друг Джулиан Барбур, хорошо знающий рассейский язык, в подобных случаях (и здесь я почувствовал интонационное сближение ситуации разговора Эверетта с Бором и моего неуклюжего вопроса) русские (он написал не правильное «рассеяне», а именно «русские» - нравилось, видимо, Эверетту это слово) употребляют пословицу: «Ne nuzhno dumat’, chto my Boga za borodu derzhim – vce my pod Bogom hodim!»». После прочтения этой фразы, написанной именно так, в аглицкой транскрипции рассейских слов (оставил ему такой файл, вероятно, сам Барбур, а Эверетт хранил его в своем компьютере, как будто предвидя, что потребуется она ему для охоложения «русских» наглецов), я буквально позеленел от стыда. Я ясно осознал, что вопрос мой был, по крайней мере, дважды бестактен – по отношению к самому Эверетту и к Бору. Эверетт в то далекое время отнюдь не был «пай-мальчиком» и над чувством почтения к Бору у него превалировало чувство торжества, чувство сильного молодого волка, увидевшего промах вожака стаи. Это естественное чувство, но когда осознаешь его с вершины жизненного опыта, оно не вызывает удовлетворения. И я понимаю это теперь не абстрактно, мой опыт работы в «Ипотехе» показал мне, что чувство это довольно быстро меняет свой вкус и со временем он становится все более горьким. Что же касается Бора, то бестактным с моей стороны было суетное желание узнать подробности его трагической ошибки. Здесь я был представителем той самой публики, которая, по выражению Пушкинова, желала бы узнать подробности устройства ночного горшка лорда Байрона для того, чтобы опустить гения с творческого пьедестала на уровень своего «обыкновенного быта». Были в этом моем вопросе и другие «не красящие» меня моральные обертоны. Так что понять, почему я вообще позволил себе задать такой вопрос, я сейчас просто не мог. И именно эта смесь стыда и недоумения и плескалась сейчас во мне. Это я увидел в маленьком зеркальце («меркюр»), стоявшем на компьютерной стойке у монитора (слава Богу – целого, а не «разбросанного» энергией моего стыда). На моем лице утолщилась и сделалась рельефнее сетка капилляров. Сделались резче и капилляры глазного яблока. Они слились со зрачками, образовав похожие на паучков фигурки, как будто на зрачки наползли два членистоногих уродца. И к чувству стыда добавилось отвращение к собственному изображению, глаза которого были теперь ослеплены пульсирующими телами закрывавших зрачки пауков… Пульсации зрачков порождают сферические волны света, которые, однако, не расползаются по пространству, а как бы проявляются при мысленной фокусировке луча зрения на какой-то области. Каждый раз рассматриваемая из неподвижной точки область представляет собой часть сферического слоя какого-то тумана с ясно видимыми границами в центральной области поля зрения и расплывавшимися в почти однородное желе краями. Но стоит мысленно сместить взгляд в сторону этого светоносного студня, как он начинает трансформироваться и приобретать ту же сферическую форму, что и соседний, только что покинутый элемент рассматриваемого объёма. Причём радиус кривизны остается тем же самым, но вот наклон слоя по отношению к мысленному же горизонту меняется в соответствии с углом поворота луча зрения. Если «опустить глаза вниз», то можно увидеть ярко светящееся пятно, которое не фокусируется, как бы ни напрягать зрение из той точки, где находится начало луча зрения. Иногда рассматриваемая область начинает светиться все более интенсивно, как будто раскаляясь, но ее структура остается неизменной. Такие пульсации яркости всегда неожиданны и явно нерегулярны. Хотя среди всех элементов, различимых в поле зрения, нет ничего, что могло бы быть зафиксированным как опорная точка (а может быть, именно поэтому?) рассматривая эту картину ощущаешь ее непрерывное вращение, которое вызывает легкое головокружение. Причем характер этого вращения не связан с перемещением отдельных точек картины, а, скорее, подобен «вращающимся» кругам неоновой рекламы или волнам света на гирляндах новогодних елок – там нет физического вращения, но есть ритм пульсаций, создающий иллюзию вращения. Если луч зрения долго остается фиксированным в каком-то направлении, возникает иллюзия движения по этому лучу, и тогда сферическая поверхность сжимается, радиус кривизны уменьшается, и ее границы окутываются дымкой, сначала плотной, а потом все более разреженной, взгляд какое-то время преодолевает почти полную пустоту, а потом появляется новая сфера большего радиуса. При этом новая сфера, как это и следовало ожидать, сначала видится изнутри, и выглядит почти плоской «твердью», но, по мере приближения, ощущение ее твердости делается все менее уверенным, пока не исчезает вовсе, когда взгляд пронизывает ее как самолет встретившееся облако. Вырвавшись из этой «газообразной тверди», луч зрения уже не встречает при удалении от нее ничего примечательного. Окружающая дымка все более редеет, не исчезая, тем не менее, полностью. И вот, при значительном удалении от исходной точки, поле зрения претерпевает метаморфозу. Она похожа на ту, которую можно ощутить при разглядывании известных «волшебных картинок», когда зафиксированный, но «расслабленный» взгляд из специально подобранной мозаики цветовых пятен выхватывает вдруг прекрасные объемные изображения разных телесных сущностей - цветов, зверей, чайных чашек и других сюрпризов, придуманных художником. Ушедший вдаль от второго сферического слоя взгляд начинает различать какие-то силуэты. Сначала это просто туманные пятна, быстро превращающиеся в точки и исчезающие из поля зрения, потом появляются некие волокна, кристаллы и, наконец, картинка, знакомая всякому, кто смотрел в окуляр микроскопа. Сейчас мне показалось, что если приложить ещё одно усилие воли, то откроются передо мной космические бездны с их планетами, солнцами и галактиками… Но предшествующее движение, как оказалось, было столь трудным, потребовало от меня такого напряжения, что в какой-то момент я не удержал луч своими мысленными усилиями, и мой взгляд, как натянутый до предела резиновый жгут, вырвавшийся из растягивающих его рук, начал стремительно сжиматься, и все картинки замелькали в обратном порядке… Об ответе Эверетта на мой третий вопрос, статье академика Маркова, демиургическом землекопе, ,реакции сослуживцев на мою книгу, пользе лазерного сканнера-переводчика, причинах интереса Эверетта ко всему «русскому», а также о роли мальчишки, выпавшей бородатому дяде. Первый светлый морок. Заштопать для царя мундир Один портной взялся. Сел шить; но над одной из дыр Вдруг дух в нем занялся. Уф! Несколько мгновений головокружения и сосания под ложечкой почти не прервали течения моих мыслей. На сей раз отключка оказалась весьма краткой и совершенно бессодержательной, как бессодержательна любая последовательность абстрактных образов и символов для всякого, кто не посвящен в их смысл. Сфера, гантель, бублик… 1s, 2s, 2p... Пустые абстрактные множества для 99% представителей рода Homo Sapience… И нечего терять драгоценное время, которого Бог создал достаточно лишь для себя, узурпировав при этом роль распределителя этого дефицита для нас, «смертных». Сегодняшняя моя квота уже близка к исчерпанию, так что не мешкай, Цигнус – скорей к экрану! Мой третий вопрос был посвящен работам академика М.А.Маркова (в частности его трактовке теории Эверетта в статье "Классический предел в квантовой механике и предпочтительный базис", написанной совместно с В.Ф. Мухановым) и, в связи с ней, той гипотезе о склейках эвереттовских ветвлений Мультиверсума, о которых я писал в посланной ему в Уошингтон моей книге «Неодномерное мироздание». Вопрос я сформулировал так: «Известны ли Вам работы рассейского академика Маркова о принципиальной возможности взаимовлияния различных ветвлений Мультиверсума и что, в связи с этим, Вы могли бы сказать о моей идее «склеек» этих ветвей при определенных обстоятельствах?» Я надеялся, что о статье Маркова и Муханова он что-то слышал - все-таки известный физик Марков, настоящий рассейский академик, не чета многим нынешним! Но статья была опубликована на рассейском языке и, если Барбур не обратил его внимания на нее специально, Эверетт мог и пропустить – читать рассейскую периодику на Западе никогда не считалось обязательным для ученого, а рассейскую периодику советского периода – и подавно. Хотя мировая наука и «недобирала мощности» при таком отношении к «рассейским Невтонам», но в целом это была прагматичная позиция – то, о чем наши ученые хотели оповестить мировую научную общественность, как правило, переводилось на аглицкий и печаталось «там». А то, в чем сомневались – печатали здесь по-рассейски, чтобы в случае успеха идеи потом ссылаться на приоритет, а в случае ее провала было не так стыдно за «допущенную оплошность». Конечно, бывали и исключения из этого «взаимоудобного» правила. И работу Маркова и Муханова, где впервые ставится под сомнение абсолютный запрет раннего эвереттизма на взаимодействие «параллельных вселенных», я отношу именно к таким исключениям. Другой разговор о моей книге. Разумеется, Эверетт совершенно не представлял себе, ни того, каких внутренних усилий потребовала от меня эта работа, ни того удовлетворения, которое я получил, когда стало ясно – у книги будут читатели! Впрочем, мы были «квиты» - ровно настолько же я не был осведомлен о его эмоциональных взаимоотношениях со своей знаменитой статьей. И это нормально: состояние ученого, писателя, да вообще любого творческого человека в момент демиургического делания – это совершенно особое, «закрытое», глубоко личное состояние. Даже сам творец, находясь в этом состоянии, не осознает, сколько пластов его личности задействованы в нем. Профессия тут совершенно ни при чем – я знавал потрясающе творческого и артистичного в своей работе землекопа, который при внешней щуплости и реальной болезненности так ловко управлялся со своей штыковой лопатой, «выдавая на гора» смерзшееся глинистое крошево, что опережал по его «производству» здоровенного бугая с совковой, стоявшего с ним в паре на подчистке! А «во внешний мир» уходят только общественно-значимые результаты такого труда – новое знание, новые книги, да хоть и кубометры сибирской глины! И для «потребителя» все эти «муки творчества» - совершенно чуждый и, главное, бесполезный, а потому совсем неинтересный продукт. Моя книга для Эверетта – это просто очередной информационный источник. И он либо полезен для него, и тогда мои «пот и слезы» были оправданы результатом, или – нет, а в таком случае Эверетта совершенно не должно волновать происхождение этой побочной «воды» - моего трудового пота и слез от упоения ею… Другое дело – близкие, друзья и сослуживцы! Реакция друзей – отдельная тема. А вот сослуживцы… Моя книжка стояла на почетном месте в шкафу кабинета Василия Васильевича, хотя и в неразрезанном, думается, виде. Вряд ли он стал ее читать и даже просматривать. Совсем по другому поводу он однажды сказал мне, что вообще читает мало, руководствуясь здоровым принципом: «жизнь коротка, в ней и без книг хватает выпендрёжа». А Илья Стефанович именно ее имел в виду, когда вещал в том же кабинете о том, что моя голова занята «всякими заумными идеями вместо того, чтобы нацелиться на плодотворное общение с коллегами» именно попытавшись прочесть ее (другое дело, что на это его «не хватило»). Оба факта однозначно свидетельствуют, что мой «ближний круг служебного общения» не остался равнодушным к моему труду. Но Эверетт к этому кругу явно отнесен быть не мог!.. Так вот, выяснилось, что о работе Маркова и Муханова Эверетт не знал (Моисей Александрович умер за шесть лет до присуждения Эверетту Нобелевской премии и, разумеется, он не мог напомнить ему о своей старой работе, ставшей столь актуальной). Я обрадовался этому - «вдруг дух мой занялся!» Теперь, возможно, Барбур по просьбе Эверетта переведет ему эту статью из «Трудов…» моковского физического института Академии Наук и Эверетт учтет ее в своей дальнейшей работе. Что касается идеи склеек и моей книги, то, понятно, ее «пролистывание» и даже чтение отдельных страниц с помощью ручного лазерного сканнера-переводчика, вряд ли могло сформировать у Эверетта ясное и целостное представление о моих мыслях. Но и это «пролистывание со сканнером» было важно и полезно – таким образом в его подсознание попали те «семена», на плоды от всходов которых можно было рассчитывать в будущем. А пока мэтр был снисходителен и настроен явно добродушно. И были тому причины сугубо личного характера. Прежде всего – это знакомство с ярким и «приятным во всех отношениях русским медведем» Джоржем Алфинзбургом. Такого духовного коктейля «в одном стакане» Эверетт ещё не пробовал! После их официального представления друг другу Джордж тут же спросил: «Так вы и есть тот самый Эверетт, в метафизику которого я не верил и не верю, но физика которого настолько глубока, что фонтан ее идей пробил туманное болото многомирия и породил идею квантового компьютера?». А чего стоила такая фраза Джоржа о современной Рассее; «Мы ждали социализма с человеческим лицом, а получили рыжее мурло Чудайца». И это сказал человек, имевший на студенческой скамье доход в 1700 рублей, что почти в три раза превышало среднюю зарплату служащего в начале 50-х годов прошлого века в «стране Стального Вождя»! И никаких угрызений совести у него при этом не было (что совершенно нормально – его талант был достоин и гораздо большего). Но и сейчас у Алфинзбурга не было угрызений совести – его оценка Чудайца была вполне искренней! А ещё «в том же стакане» были растворены и жажда познания, и талант физика, и коммунистический идеализм, и житейская сметка, и открытость, и «русский юмор», и много ещё чего-то такого, из-за чего Эверетт, после общения с «коллегой Джоржем», как-то более внимательно и доброжелательно стал относиться вообще ко всем «русским». Этот интерес укрепился после его краткого знакомства и общения с Ольгой – «русской» подружкой Оливера, барышней очаровательной и весьма неглупой, судя по ее оценке нынешнего Рассейского Президента… Не знаю, что из всего этого опыта общения с «русскими» казалось Эверетту важным в момент ответа на мое письмо, но то, что это «важное» было в его ментальной реальности, подтверждается самим фактом получения мною его письма. Чувствовалось, однако, что пока вопрос о склейках он относит к разряду «идейно-технических». Конечно, и «идейно-технические» вопросы могут представлять интерес (как, например, в работах его стокгольмских «sobutyl’nikov» по выражению Алфинзбурга) – но, всё-таки, они были далеки от центра поля его интересов. Поэтому Эверетт с равнодушной вежливостью писал мне, что моя гипотеза вполне допустима и возможна (а что осталось невозможного, - возопило моё «внутреннее Я» при чтении этой фразы письма, - в картине мира, стоящей перед глазами осознавшего и прочувствовашего Ваши идеи человека???), и даже весьма любопытна «с прикладной точки зрения», но он, Эверетт, «далек от того, чтобы считать себя специалистом в подобных вещах». Далее он написал, что, как ему кажется, здесь скорее важно мнение «чистых математиков прагматической ориентации», и мне лучше обратиться к ним, например, к «профессору из сибирского города Ленцка Александру Гутсу». Порадовало, конечно, что Эверетт знал и, оказывается, следил за работой Ленцевской компьютерной школы, с лидером которой – Александром Гутсом - у меня были очень по-человечески теплые отношения, но остался какой-то осадок от того, что Эверетт не увидел фундаментальной глубины в этой моей гипотезе. А, кстати, любопытно, откуда он вообще знал о существовании в Сибири мощного математического центра? Центр ведь создавался без особой шумихи и решал отнюдь не только «научно-образовательные» задачи. Именно там работали над проблемами расшифровки и идентификации данных аэрофотосъемки сибирских просторов при сверхнизких температурах. Эта программа осуществлялась в рамках масштабных геологических работ по поиску новых месторождений нефти. Идея их была простой. Поскольку, как известно, за счет внутреннего тепла Земли температура по мере углубления растет (порой до 3 градусов на каждые сто метров!), то в условиях сибирской зимы, когда морозы стоят под 50 градусов Кельция, верхний слой промерзает и становится прозрачным на значительную глубину, что делает буквально видимым содержание недр. Особенно в красном цвете. Но реально спутниковая и аэрофотосъемка давали очень сложную картину и ее расшифровка требовала больших усилий со стороны математиков и компьютерщиков. И ленцкие математики приложили немало усилий для решения именно этой задачи. Естественно, что вся эта работа имела «закрытый» характер – нефть продукт стратегический. Однако Эверетт знает ленцкую научную школу явно не понаслышке. Любопытно… Но, не скрою, несколько обидно, что работы ленцких ученых он знает и ценит, а в моей идее ему «не хватило глубины»… Впрочем, мой «разбор полетов» компетенкингского визита Эверетта к Бору в 1959 году, когда молодой Эверетт предложил на суд умудренного жизнью Бора свои новые идеи, показал мне, что История - просто в силу своей невообразимой длительности! - давно страдает старческими провалами памяти, а потому часто повторяется, наступая на одни и те же грабли «исчерпывающих вопрос» теорий. И не стоит на нее за это сердиться. История – это не объект косной природы, не некое закристаллизовавшееся Прошлое, а живой организм, структура которого определяется нашей памятью, а свойство забывчивости является ее неотъемлемым и необходимейшим качеством. Без него она не могла бы творить «здесь и сейчас», как не может сотворить бабочку гусеница, не меняясь через кокон и куколку. Так неужели Эверетт считает, что его теория Мультиверсума «исчерпывает вопрос» о структуре мироздания и теперь для следующих за ним поколений ученых и мыслителей остается только уточнять «технические детали»? Мелькнувшую об этом мысль я мгновенно отбросил – не мог Эверетт так думать! Просто в силу понятной житейской усталости («Плохо, ежели мир вовне изучен тем, кто внутри измучен») и, одновременно, не отпускающего творческого напряжения, его взгляд несколько «замылен» и все новое должно «пробиваться» к нему через отлаженные фильтры восприятия, отсекающие возможные помехи реализации его собственных замыслов. Вот свяжется он с Барбуром, получит его перевод статьи Маркова и Муханова, сложит в уме «2+2», и вспомнит тогда и о моей книге, и об идее склеек! Во всяком случае, я на это надеялся. Пока же следовало сохранить текст ответа Эверетта и в специальной папке в разделе «VIP-корреспонденты» и, на всякий случай, переписать его на CD, где сохранялись самые важные для меня документы. И написать ему ответное короткое благодарственное письмо, в котором нужно сообщить, что подробнее напишу позже, после обдумывания и анализа его ответов на мои вопросы. Это было необходимо не только для соблюдения правил приличия, но и потому, что я был искренно ему признателен за его - не побоюсь употребить «высокий штиль» - благородный поступок. Ведь ему, «нобелиату», пришлось написать письмо никому не известному «русскому» корреспонденту! Текст ответного письма я подготовил с помощью электронного переводчика. Многие не любят и даже ругают этого «помощника полуграмотных юзеров». Но что поделаешь с таким «тяжелым наследием» советской средней школы и собственной юношеской лени? И я был благодарен компании «Promt» за ее заботу обо мне… Отправив письмо, я подумал, что сегодня проявилась замечательная преемственность интеллигентских традиций. Ведь когда-то и Ему, тогда 13-летнему мальчишке, ответил на письмо с «научными рассуждениями» сам Альберт Эйнштейн. И он, мальчишка Хью, в далеком 1943-м, хотя и был безмерно рад полученному письму, но ведь, садясь за стол со старой перьевой ручкой в руках и намерением сообщить нечто важное для великого физика, не сомневался ни секунды, что Эйнштейн, как бы ни был он занят своими собственными идеями, обязательно прочтет его рассуждения и ответит. А сегодня в роли такого мальчишки оказался я – далекий рассеянин с всклокоченной бородой и «пауками» на почти слезящихся от напряжения глазах… Напряжение это достигло такого уровня, что глаза мои снова закрылись… Привел меня «в чувство» раздавшийся из динамика приятный женский голос: - Осторожно, двери закрываются! Следующая станция – «Университет»! Я очнулся от легкой дремы, которая частенько накатывает на меня при длительных поездках в полупустых по вечерам вагонах моковской подземки. Александр Константинович назначил мне встречу в метро, поскольку допоздна просидел на заседании какой-то межведомственной комиссии по нефтеразведке. Он и прилетел в Мокву на один день для участия в этом заседании. А посвящено оно было утверждению планов бурения пробных скважин по результатам расшифровки «красной фотосъемки», сделанным в Ленцке под его руководством. Когда я вышел из вагона, Александр Константинович уже ждал меня на скамеечке посреди зала. Я узнал его не по полиэтиленовому пакету с новой книжкой, которую он хотел мне подарить. Хотя именно этот атрибут был им заявлен как опознавательный в ходе нашего телефонного разговора, когда мы договаривались о встрече. Просто выглядел он как-то «не по моковски» - более непосредственный, более открытый, более любопытный к окружающему, чем типичный пассажир моковского метро. И, кстати, совсем не «по-профессорски». Я бы сказал, что имел он вид чирковского Максима на второй день управления Министерством Финансов. И чувствовалось, что ещё кипела в нем энергия прошедшего заседания. А то, что было оно не простым, мне было ясно – делили там бюджетные деньги. - Здравствуйте, Александр Константинович! - Здравствуйте, Игорь Петрович! Мы присели на лавочку и, как прилежные школяры, достали авторучки и книжки и принялись надписывать их друг для друга. Краем глаза я видел, каким каллиграфическим был его почерк. Передав друг другу книги, и, тем самым совершив обмен «верительными грамотами», мы разговорились о положении дел «на фронте эвереттики». Я, конечно, прежде всего передал ему привет от Самого Эверетта, рассказав, что Эверетт писал мне о том, что он ценит работы Александра Константиновича. Он всплеснул руками, глаза за стеклами очков вспыхнули, и он сказал: - Ну, право!.. Не мне бы это слушать, а нашему ректору. А то вот уж второй год не могу пробить новый компьютерный комплекс для своих аспирантов – денег у него нет на «эти фантазии»… Правда, есть у него ещё один хороший аргумент. Он говорит, что теория вероятностей точно установила – в одну и ту же воронку дважды снаряд не попадает. Имеет он в виду, что после присуждения Нобелевки Эверетту больше в этой области «ловить нечего» - второй премии никому уж не дадут, а потому и у него, ректора, денег «нет»… Я согласился с тем, что хорошо бы сподвигнуть Эверетта сформулировать принципиальные проблемы своей области науки, как сделал это в свое время Гильберт и делает сейчас Алфинзбург. Это и для ректора, и для Нобелевского комитета было бы неплохим ориентиром. Начали мы и сами составлять проект такого списка. И согласились, что первым номером здесь стоит «проблема решающего эксперимента». Решение Тегмарка является абсолютным, но очень уж бесчеловечным! Была тут у меня мыслишка… Нужно бы попробовать один вывод из гутсовских построений о многомерном движении проверить на электронном ускорителе… Договорились, что я напишу статью для его нового журнала, где эвереттике всегда открыт «фиолетовый светофор». Говорить было трудно – приходящие и уходящие поезда гремели и скрежетали, оба мы уже хотели спать, и завтра ему суждено было лететь в Ленцк, а мне – в Амгарск… О Петрофабриченском феномене, интригах спецслужб разных стран, рассейской и американовской уфологических школах, различиях принципов бизнеса в Рассее и Америке, «фотографе» и «музыканте» под колпаком КГБ, колючих шипах в букете роз для нобелиата Алфинзбурга, а также о причинах неплодотворности публичных дискуссий на рассейской почве. Второй светлый морок. Из среды туманов серых Времен бывших и протекших Из среды времен волшебных, Где предметы все и лица Чародейной мглой прикрыты, Где сражалися за славу И любили постоянство, Хоть грешишки кой-какие Попадались, но их в строку Невозможно было ставить… На этом месте я проснулся. Посмотрел на часы – всего-то 10 минут проспал! Прямо за клавиатурой. Но сон помнил совершенно отчетливо и, кажется, этот сон меня освежил! Чай в кружке почти остыл, от кончика чубука трубки, не один раз и набитой и торопливо-неряшливо прочищенной за этот вечер, уже тянуло антикотиновой горечью. Так что пришлось снова идти на кухню, снова разбирать и чистить трубку, но теперь, после чтения письма Эверетта и отправки ответа на него, спать мне совсем не хотелось и я открыл файл, в котором у меня были собраны материалы по истории возникновения и восприятия идей Эверетта в Рассее. … После того, как в 1977 году произошли события, вошедшие в историю эвереттики под названием «Петрофабриченский феномен», теория Эверетта была официально признана в Рассее. Но «официально» вовсе не значит, что публично! И в данном случае все было как раз наоборот – признание это было тайным и соответствующие документы получили гриф «Совершенно секретно». Дело в том, что в тот раз в Петрофабриченске не только наблюдались «летающие тарелки», но и были зафиксированы следы их сугубо материального воздействия на наш мир. И какие убедительные следы! Из различных районов Петрофабриченска в секретные военные лаборатории, которые, оказывается, в то время уже серьезно занимались изучением НЛО, были доставлены листы оконных стекол с отверстиями странной структуры, которые, по заключению специалистов, «образовались в результате пробоя стеклянной плоскости мощным лазерным лучом»! А у специалистов были веские основания для таких утверждений – как раз в это время проходил экспериментальную проверку первый опытный экземпляр подобного лазера у нас на Урале и специалисты могли сравнить Петрофабриченские образцы с уральскими. Но на Урале лазер весил несколько десятков тонн и стоял на прочном бетонном фундаменте, а в Петрофабриченске «парил аки птичка» над городскими кварталами и исчез со скоростью, недоступной самым быстрым самолетам-перехватчикам! Понятно, что военный аспект в то сугубо «материалистическое» время был вообще доминирующим при оценке той или иной «научной зауми». И после такого заключения экспертов академик Александров, тогдашний Президент АН СССР, сказал, что «теперь невозможно отрицать государственную важность уфологии». И финансирование секретных военных лабораторий было удвоено, а меры по обеспечению секретности - утроены. Разумеется, к исследованиям были подключены и КГБ («Комиссия Государственной Безопасности», тогдашний аналог нынешней ФСБ – «Федеральной Системы Безопасности») и ГРУ (неизменной, как показала практика, структуры – и при коммунистах и при демократах «Главное Разведывательное Управление»). По сведениям ГРУ аналогичных Петрофабриченскому устройств не было ни в одной стране мира, так что списать все это на «империалистические провокации» не представлялось возможным. И тогда аналитики из КГБ раскопали вот что. Оказывается, у американов изучением НЛО занимаются очень давно, но особое значение (судя по тем мерам секретности, которые использовали для ее маскировки, играет созданная в 1956 году организация под названием WSEG («Weapons Systems Evaluation») – «Группа оценки систем вооружений». А директором физико-математического отдела этой группы, или, выражаясь без бюрократических экивоков, главой их «мозгового центра», является никто иной, как сам Хью Эверетт III! (Это мы сейчас так восприняли бы подобное известие. Тогда же, скорее всего, сказали с другой тональностью - «некто Хью Эверетт III»). Разумеется, на него завели досье и, прежде всего, положили в него все «открытые» сведения об этом человеке. И их анализ уже на этом, первом этапе, ещё без привлечения агентурной информации, дал поразительные результаты. У Эверетта было всего несколько печатных работ. Но из них КГБшные аналитики (а в этой конторе на таких должностях сидели люди и грамотные и сметливые) сразу определили, что оказалось его главным интеллектуальным вкладом в этот военный проект – теория реальности параллельных миров. Почему Эверетт получил место в этой группе тоже было предельно ясно и лишний раз свидетельствовало о том, что американы имеют хорошую стратегию подготовки кадрового резерва для системы национальной безопасности. Получив химико-технологическое образование в католическом колледже, и показав при этом хорошие способности, Эверетт, не имея достаточных для этого средств, продолжил образование уже на деньги военного ведомства. А, как известно, «кто платит, тот девушку и танцует», что в данном контексте означает: кто платит за обучение – тот и пользуется его плодами в первую очередь! Так Эверетт «попал под колпак» военных и начал официальную работу на них ещё не закончив аспирантуры. Но, как известно, американовские военные слишком либеральны и чересчур законопослушны. Они дали Эверетту возможность завершить образование, защитив диссертацию. Её тезисы – это и есть знаменитая статья 1957 года. И это, конечно, было прямой ошибкой военного ведомства – там «проглядели» самое главное: о чем написал диссертацию Эверетт. Когда же в Пентагоне спохватились и поняли значение этой работы (а пентагоновсие аналитики не менее грамотные и сметливые, чем в КГБ) – «птичка уже вылетела». Теория, возвещавшая миру о реальности «параллельных миров» была опубликована в открытой печати! Оплошность американовские военные поняли быстро, и значение теории Эверетта было осознано ими гораздо раньше, чем в других странах. Но не потому, что в других странах военные аналитики сильно хуже американовских. Просто американы (а они все-таки были ближе других к эпицентру этого интеллектуального взрыва) первыми поняли, что если «правильно» развивать исследования в «постэвереттовской физике», то можно получить фантастические преимущества перед противником - от новых видов оружия и эффективной разведки до «бескровного физического устранения» в какие-то «не наши» ветвления Мультиверсума не только отдельных лиц, но и целых армий и даже неугодных стран со всем их населением. Так что атомная бомба с ее чудовищными разрушениями и радиоактивной заразой окажется просто варварской дубинкой и ей не останется места в современном «интеллектуальном» военном арсенале. (Это, кстати, было одной из причин того, почему американы так относительно легко согласились во времена Круща подписать Моковский договор 1963 года о прекращении испытаний ядреного оружия и позже Договор 1968 года о его нераспространении). А, поняв все значение этой эвереттовской зауми, американы сделали все возможное, чтобы помешать аналитикам других стран прийти к правильной оценке теории Эверетта. Для этого нужно было решить две задачи – сделать Эверетта своим союзником и нейтрализовать наличие в открытой печати основополагающего интеллектуального ресурса эвереттизма, да ещё таким образом, чтобы как-то воспользоваться последствиями ошибки с публикацией с пользой для себя. Прежде всего, сам Эверетт, уже работавший во WSEG, был подключен к программе исследований НЛО. Этим убивались сразу два зайца. Во-первых, Эверетт получил возможность участвовать в экспериментах, успех которых подтверждал его теорию о параллельных мирах, ибо, по мнению пентагоновских аналитиков, именно они, эти непредсказуемо ветвящиеся побеги древа Мультиверсума и являются наиболее вероятной физической причиной, а иногда и прямым «сознательным» источником тех явлений, которые мы связываем с НЛО. Во-вторых, Эверетт связывался подпиской о неразглашении ставших известными ему результатов этих сугубо секретных исследований и это гарантировало военных и от рецидивов его «чрезмерной болтливости» (лично Эверетту не могли простить того, что он сам не осознал государственной важности своей диссертации и не сдал ее дежурному офицеру секретной части). Связанность подпиской не позволяла ему принимать участия в аналогичных гражданских проектах, оплодотворяя своими идеями какие-нибудь «независимые группы» энтузиастов-недоучек, которые, конечно, займутся исследованиями НЛО самостоятельно. Ведь ДША – свободная страна и чем ее граждане занимают свободное от бизнеса время: ловлей бабочек, состязаниями в плевках на дальность, или изучением «летающих тарелок» - их неотъемлемое право и личное дело. Решив таким образом «проблему Эверетта», военные вместе с ЦРУ блестяще осуществили и операцию «Прикрытие», имевшую целью дискредитировать и похоронить в библиотечной пыли пионерскую статью Эверетта. Для этого сначала была проведена подготовительная работа в Компетенкинге с Нильсом Бором. Работа тонкая и весьма эффективная. Ведь Бору нельзя было грубо «запретить» обсуждать теорию Эверетта, не мальчиком был Бор, а нобелиатом, да и в Пентагоне грубость уже не приветствовалась. Поступили умнее. Для убежденного пацифиста Бора через влиятельных деятелей Пагоушского движения была организована «утечка информации», из которой он узнал, что Эверетт по своей политической позиции – один из «Вашингтонских ястребов». («…грешишки кой-какие попадались»). И давно сотрудничает с американовскими спецслужбами (в доказательство чего была предоставлена фотокопия отчета Эверетта о его ещё студенческой поездке в ГДР). И хотя он лично и не участвует в планировании ядреных ударов по причине своей молодости и отсутствия соответствующего «веса» в военно-бюрократических кругах, но добровольно и весьма эффективно работает в группе технического обеспечения такого планирования, анализируя, к примеру, последствия применения ядреного оружия по конкретным целям, в том числе и гражданским. Разумеется, при этом не сообщалось, что в этой группе было чуть ли не лучшее во всем Пентагоне компьютерное оборудование, а Эверетт уже в это время был «компьютерным фанатом», и с помощью такой «морковки», как пентагоновские компьютеры, действительно еще «молодого и фиолетового» Эверетта можно было затащить и не в такое болото. Кроме того, Бору была пересказана и сплетня о том, что в частных беседах Эверетт якобы похвалялся, что его теория (которую сам Уилер считал коперниканской по масштабу) делает принцип дополнительности «детской игрушкой для утех стареющих нобелиатов». И что именно это он бы сказал и самому Бору при личной встрече. Таким образом была подготовлена почва для этой самой личной встречи, проведенной по инициативе Уилера (даже не подозревавшего о своей включенности во все эти интриги) в 1959 году. Встреча, как и планировалось спецслужбами, закончилась хорошо организованным провалом. Деталей этой встречи теперь не знает никто, кроме самого Эверетта, а он, как можно судить по его ответу на мое письмо, до сих пор не желает их оглашать. Результат этой операции превзошел все ожидания – после того, как сам Бор «словно воды в рот набрал» и не произносил ни слова о теории, которая столь явно вступала в противоречие с общепризнанной его компетентинговой интерпретацией квантовой механики, физики-профессионалы поняли, что он считает ее настолько ничтожной пустышкой, что не желает тратить ни секунды на какие бы то ни было «опровержения», т.е. теория Эверетта не заслуживает даже обсуждения. Ко мнению Бора прислушивались внимательно все, кто не относит физику к «пустому умствованию за казенный счет». А к отсутствию его мнения прислушивались тем более! Так что некоторое время операция «Прикрытие» буквально висела на волоске – стоило Бору сказать хоть что-нибудь двусмысленное по поводу работы Эверетта, или даже разгромить ее в какой-то гневной статье - аналитические отделы многих разведок мгновенно взяли бы ее «в разработку». Но Бор промолчал… И эксперты-консультанты во всех военных и разведывательных органах всех стран мира с аппетитом «скушали» эту дезу, приготовленную ЦРУ и Пентагоном. Про Эверетта просто забыли. Журнал с его статьей мирно пылился на библиотечных полках университетов. И так продолжалось до 1977 года, когда аналитики КГБ «нутром» (а, говоря точнее, состоянием своего желудка) почувствовали качество продукта, съеденного ими в 1959 году и приготовленного, как выяснилось, в ЦРУ. И, облегчившись после этого, со здоровым аппетитом занялись Эвереттом уже самостоятельно. А в 1959 году сам Эверетт настолько глубоко переживал результат этой встречи, что несколько лет не желал и вспоминать ни о какой работе «по теме диссертации» (Вернее, все, что он думал об этом, он прочно запирал в какой-то тайник в глубине своей души и не позволял себе ничего извлекать оттуда для публичного обозрения). Но время лечит. И долго «душить прекрасные порывы» собственной натуры невозможно. Да и военным был нужен именно творческий потенциал Эверетта на поле изучения НЛО и других проявлений параллельных миров. И в 1964 году Эверетту дают специальную группу, через год реформированную в «Лямбда-корпорейшн», где он становится директором. То, что он согласился, было «победой военных». Эверетт снова приступил к активной работе на Пентагон. Несколько лет все шло по предусмотренному плану. Но в 1973 году при невыясненных обстоятельствах (а я считаю, что, по крайней мере пока, и выяснять-то эти обстоятельства было бы неуместно), Эверетт узнает о роли спецслужб в подготовке его встречи с Бором в 1959 году. И он, вместе со своим молодым тогда другом Доном Рейсслером, уходит из Пентагона. Как объяснялись при этом «разводе» стороны, какие обязательства при этом брали на себя – тоже, конечно, не сообщается. Но остается фактом то, что Эверетт никогда в дальнейшем не поднимал тему НЛО (не только не рассказывал о результатах пентагоновских исследований, что, естественно, вызвано сохраняющейся секретностью и подпиской о неразглашении информации, но и не комментировал никаких новых фактов, появляющихся в СМИ на эту тему). Но это вовсе не значит, что он не интересовался ею! И его многочисленные позднейшие визиты «на туманный Альбион» с якобы «сугубо личными целями», которые, по анализу, проведенному нашими уфологами, четко коррелировали по датам с наиболее «громкими» появлениями там знаменитых «кругов на полях», явно не случайны! А его интерес к коллекции Джульсруда? Вот любопытное свидетельство Пола Стоунхилла из "Russian Ufology Research Center". «Слухи о раскопках Джульсруда доходили до меня еще в 1970-е годы, когда я учился в калифорнийском университете в городке Нортридж. А Джон Тьерни узнал про тайники Акамбаро будучи в Мексике, расследуя другие аномальные находки. Неподалеку от Акамбаро были найдены очень странные кости динозавров». И Эверетт тоже интересовался этими костями! Почему? В том же 1973 году Эверетт основывает гражданскую компанию DBS, которая занималась и алгоритмами для планирования деятельности химических заводов, и средствами защиты компьютерных файлов и программ, и методами оптимизации расписания школьных автобусов, и определением степени эффективности использования компьютера, и техникой работ с базами данных и многим-многим другим. Разумеется, все это делалось на великолепной компьютерной базе – фанатическую любовь к компьютерам Эверетт пронес через всю жизнь и верен ей по сей день. Я не удивлюсь, если в результате раскрытия архивов нашего Министерства Обороны и КГБ выяснится, что, начиная с 1977 года (после Петрофабриченских событий в Рассее) через цепочку подставных фирм DBS была связана с этими ведомствами и решала некие задачи для них, совершенно не подозревая о том, кто является истинным плательщиком по некоторым контрактам. И, конечно, не зная об истинных целях, маскируемых туманными формулировками типа «техника работ с базами данных». Наши аналитики из ГРУ тоже не задаром пили «Столичную» и балычком ее закусывали! И не только самолетами и танками интересовались, но и запасами сырья для горючего их двигателей. Кто, как вы думаете, мог, например, финансировать такую работу Эвереттовской DBS, как «Оптимизация планирования и обработки данных аэрофотосъемки в красном цвете значительных площадей при температурах ниже минус 58 градусов по Уоренгейту»? Как бы то ни было, деятельность DBS оказалась столь эффективной, что принесла Эверетту миллионы лоллардов и сделала финансово-независимым. Но, конечно, это было не просто и требовало колоссальной отдачи и напряжения сил, порой чрезмерного. А еще эта постоянная сигарета во рту… И если бы не какое-то библейски чудесное возвращение Оливера в тот июльский вечер… Читали бы мы не статьи Эверетта, а некрологи и воспоминания о нем! То потрясение, однако, подействовало на него самым благотворным (с точки зрения благодарного человечества) образом. Оправившись от болезни, Эверетт почти полностью отдается научной работе, развивая и пропагандируя свою теорию. (А DBS после этого, кстати, долго не протянула. У моковских заказчиков пропала львиная доля интереса к ней в отсутствие Эверетта). Административно-организаторский талант Эверетта, конечно, никуда не делся и в этот период. Его талант бизнесмена требовал выхода. Ведь начинал он не просто с «нуля» - с долгов перед Пентагоном он начинал. И всю жизнь привык не просто работать («трудоголизм» был у него в крови), а – как всякий типичный американ - продавать результаты своей работы. Торговля – это «святое» для каждого американа. И разница между «приличным человеком» и «социальной грязью» у них проходит именно по этой границе. Приличный человек – это тот, кто торгует «настоящим товаром», кто гарантирует качество проданного неважно чего – от «Биг-Мака» в «Мак-до-Донышке» до способности правильно оценить «компетенкинговую интерпретацию» квантовой механики. А «социальная грязь» торгует различным «воздухом» - элексирами «от всех скорбей», духовным плагиатом в ярких обложках и прочим подобным, включая «хорошие связи в мире духов и привидений». Не зазорно торговать и политикам. Но уж если продаешь оппозиционность – она должна быть настоящей, качественной и профессиональной. Если уж напишет грамотно покупатель желаемое название страны в бланке заказа революции, то и получит ее в оговоренные сроки. А если торгуешь лояльностью – не держи при этом в сторону власти «кукиш в кармане». Эта мысль невольно вызвала у меня ассоциации с нашей фирмой. А вот как, если «по Гамбургскому счету» оценивать, попадем мы в «приличные люди» по американовским меркам, или окажемся в болоте «социальной грязи»? Подумав, я определился так. Конечно, в самом начале, «во времена крущобной пятиэтажки», Василий Васильевич ездил на метро из своей крохотулечной двухкомнатки на работу если и не «весь в белом», то уж, во всяком случае, в «светло-бежевом» костюме. Но сегодня, после стольких лет работы не на «пляжах теплых морей» (на таких пляжах он теперь отдыхает), а именно в рассейских «социальных болотах», его костюмчик просто не мог не испачкаться. И в окне своего «Вольцубиси» он, выехав из ворот скромной загородной виллы, видит по дороге на работу в Мокву множество спешащих по фирмам и конторам людей – кто на «Жигуле», кто и на «Шмиве», но нет среди них чистых машин – все они заляпаны пятнами грязи этих самых «рассейских социальных болот». Ведь сказано у классиков: «Когда Бог выходил из Ируканских болот, то ноги его были в грязи…». И все мы, его «соратники» и «сотрудники», спешим на работу в том же потоке… А Эверетт был настоящим американом и приличным человеком. И, опираясь на свою старую страсть к фотографии и открытый им принцип «моноволновой коррекции цветности», он создает MPCE (Monowave Photo corporation of Everett) или, как это название вошло в рассейский язык после того, как деятельность корпорации приобрела международный характер – ЭФОК. Он сам не принимал активного участия в руководстве ею и состоял в штате ЭФОК просто как один из фотохудожников. Но подобрал менеджеров так «грамотно», что ЭФОК стала приносить ему не меньшие доходы, чем прежде DBS. А какой бум возник вокруг этого его детища, когда он получил Нобелевскую премию! Возможность купить пейзаж или жанровую сценку (а тем более, стать ее персонажем!), снятые камерой нобелиата, привлекли в корпорацию массу клиентов и… немалые доходы! Злые языки даже утверждают, что выдвижение Эверетта на нобелевскую премию было организовано женой его друга Дона Рейсслера Элани Рейсслер (до замужества – Элянь Цуань), которая, одновременно, была и Генеральным Президентом ЭФОК – очаровательной китаянкой в жизни и совершенно «железной леди» в бизнесе. Фотограф-нобелиат в числе сотрудников – это, как сказала бы Татьяна Борисовна, «круто» - великолепный пиар для фирмы! Кстати, именно под псевдонимом «фотограф» Эверетт проходил в донесениях «наших людей» «оттуда». Я сам видел распечатку одной из «оперативных проработок» в одной из многочисленных газет-однодневок середины 90-х годов. «Принстон. Кафе Института Перспективных исследований. Сентябрь 1991 года. Прослушка разговора «фотографа» (Хью Эверетта) и «музыканта» (Эдварда Виттена). Эверетт: Здравствуйте! Вы – Виттен? Виттен: Да, это я. Чем могу быть полезен? Эверетт: Разрешите присесть? Может быть, у нас найдется о чем переговорить за чашкой кофе… Виттен: Буду рад если это получится, поскольку обычно за кофе я размышляю о вещах, говорить о которых с кем-либо трудно… Эверетт: Я тоже. Но попробуем! Виттен: Я не спрашиваю вас, кто вы такой, но, если разговор получится, кофе – за мой счет и я постараюсь угадать… Эверетт: Не тратьте на это время. Я работаю фотохудожником, но закончил Принстон, так что здесь я и в Альма Матер и по делам – нужно сделать фото к одной статье, посвященной 70-летию присуждения Нобелевской премии Эйнштейну. Виттен: Ну, здесь я вам не помощник! Я только родился через 30 лет после этого. Так что кофе мы будем пить за разными столиками!... Эверетт: Не экономьте на мелочах – пусть за кофе и хороший коньяк заплатит тот из нас, кто первым получит Нобелевскую премию. А сегодня мы оба внесем бармену залог. Виттен: Так фотография не номинируется в Стокгольме и пари неравное! Эверетт: В этом мире здесь и сейчас многое не номинируется, но что будет через 10 лет – не скажет никто, как никто не мог десять лет назад сказать, что коммунизм в Рассее рухнет нынешним летом без затрат хоть единого цента из бюджета Пентагона… Виттен: Присаживайтесь и расскажите, при чем тут ваши надежды на премию или на мой лоллард через 10 лет? Эверетт: Ну, через десять лет это вы скорее будете пить «Хенесси» за мой счет, ибо ваша очередь на прием в стокгольмской ратуше вряд ли подойдет так скоро – ваши струны слишком массивны, чтобы успеть к миллениуму проявить себя в эксперименте. Виттен: А ваши фотографии успеют? Эверетт: Думаю, да. Если под фотографией понимать способность правильно отражать мир. Виттен: И какова же эта ваша «правильная картина мира», которая поколеблет нынешнюю и описание которой, как вы надеетесь, позволит вам прокатиться в Европу через 10 лет за чеком на миллион лоллардов? Эверетт: Вы уже употребили ключевое слово – «колебание». Все остальное – только развертка его смысла. Если мир – колебательный процесс, то справедливо его волновое описание, то есть квантовая механика. А она стоит на принципе «демократической симметрии» - реально всё, что возможно. Демократической эта симметрия является потому, что выбор реальности «здесь и сейчас» оставлен Сознанию. Виттен: Кем оставлен? Эверетт: Вы загоняете меня в угол! И я вынужден кусаться! А кто установил, что элементарным объектом нашей Вселенной является именно одномерная струна? Кто позволил этой струне, будучи свернутой в кольцо, колебаться с разной частотой и интенсивностью, порождая все известные частицы и виды взаимодействий? Виттен: Во всяком случае – не я. И вообще – это все мало реально, поскольку существует в виде пяти представлений. Вряд ли сам Творец или Натура из одной нити сшили пять разных одежек для нашего мира. Если одна из пяти теорий описывает нашу Вселенную, то кто живет в четырех остальных? Эверетт: Ну, это-то не самое удивительное. Вот вы подумаете пару-тройку лет и придумаете, как сочетать все пять одежек на одной фигуре мироздания. Может, они окажутся одним комплектом – брюки, рубашка, пиджак, ботинки и галстук. И как раз и нужны ему, мирозданию, для прикрытия разных «частей его тела». А может – и нет… И каждая вселенная ходит в своей хламиде, а ее обитатели – наши «братья по разуму» или мы сами в ином обличье. Меня же волнует проблема выбора – достаточно ли богат ассортимент того супермаркета, который я называю Мультиверсумом, чтобы Мироздание могло выбрать по совету Сознания свой костюм для каждого «здесь и сейчас». Виттен: И что же подсказывает вам ваша интуиция? Эверетт: А я к ней не обращаюсь. Тут и без нее все ясно – достаточно простой логики. Если при любом «материальном взаимодействии» вступают в контакт ваши струны, то ведь каждая из них может совершать огромное (хотя и не бесконечное!) число различных колебаний. Виттен: Конечно, если принять к тому же во внимание, что колеблется эта струна в 10 пространственных измерениях… Ясно, что результат взаимодействия струн – аккорд потрясающе богатый обертонами. Эверетт: И их уж точно хватит на индивидуальный выбор любому числу «избирателей»-Сознаний! Так что принцип демократии в таком мире обеспечен его конституцией лучше, чем нашими авианосцами в Персидском заливе. Виттен: Вы правы! А уж для самых привередливых любителей чудес есть ведь и взаимодействие этих колебаний, их интерференция. Тут такие чудеса появляются – не поверишь, пока сам не увидишь! Я не исключаю, что из клубка интерференций какой-нибудь динозавр вылезет или придет сигнал от «тау-китян» со скоростью волн Де Бройля, раз в 100 быстрее света. Эверетт: Заметьте, Эдвард, я не успел докурить сигарету, как вы не только прониклись моей идеей, но и предсказали весьма любопытные «струнные эффекты», о которых я не думал… А они могут оказаться весьма существенными для склонения мнения Нобелевского комитета в мою пользу! Так что обещанный мной коньяк, который я обязательно проиграю, вы получите вполне по заслугам! Виттен: Ну конечно, Хью – кто вы такой я понял сразу, как только вы произнесли слово Мультиверсум! – конечно, я честно заработаю выпивку за ваш счёт. Но не останусь в долгу – ваши идеи, разыгранные моим «струнным оркестром», заставят плясать под его музыку всех. И физиков, и лириков и даже чопорных философов! А мы с вами будем стоять на авансцене, кланяться публике, и радостно смотреть на это гармоническое сплетение интеллектов… Эверетт: Ага! А где-то за кулисами за нами с завистью будет наблюдать какой-то сопливый мальчишка. А когда он подрастет, то изобретет такой инструмент, который превратит и мою музыку, и ваш оркестр в хлам, интересный только историкам науки. Виттен: Ну, роль сопливого мальчишки – это вечная роль в спектакле Познания и нам ли, в нашем «здесь и сейчас», гадать о том, кто и как ее сыграет в «там и потом»?». Правда, я так и не удосужился прочитать этот текст целиком, так, «пробежал по диагонали» – уж очень «жёлтой» была газетенка и было жаль тратить на чтение время… Интенсивно работая сам, Эверетт при этом находит талантливых учеников и продолжателей своего дела. Немец, Тегмарк, Барбур – какое созвездие имен! И ведь, судя по упоминанию в письме ко мне Гутса из Ленцка, пригляд Эверетта не ограничивался только странами аглицкого языка. А среди упомянутых один только Джулиан Барбур чего стоит! Я, например, убежден, что количество ветвлений его жизни, которые проходят через банкетный зал Стокгольмской Ратуши, где он «обмывает» только что полученную 200-граммовую золотую медаль со специфическим сине-голубым блеском и чек на 22 зарплаты шведского профессора, во много раз превышает те, где он никогда в жизни не бывал перед банкетом в Ратуше на сцене Концертного зала и не обменялся парой фраз со Шведским королем. И ведь и об остальных можно сказать почти тоже самое… Для самого Эверетта эта процедура теперь уже в прошлом – его деятельная активность через 18 лет после счастливой для нас развилки судьбы завершилась тем, что в миллениум он совершил свое паломничество в Шведскую столицу и перебросился «парой фраз» и со Шведским королем, и с новым своим «sobutyl’nikom» Алфинзбургом. Его собеседнику и сотрапезнику («sotrapeznik» - ещё одно понравившееся Эверетту рассейское слово), кстати, по возвращении домой, досталось за это «по первое число»! Досталось от собратьев-физиков за такие слова в Нобелевской лекции о теории Эверетта: «Он выражает такие взгляды на философскую интерпретацию квантовой механики, с которыми многие члены «клуба нобелиатов» (в частности, и я) совершенно несогласны». От Рассейской официальной церкви за «неправославность», найденную ею в кредо лауреата: «Материалисты же, к которым я принадлежу, опираются на иное интуитивное суждение». И, наконец, когда Алфинзбург вернулся в Рассею с церемонии вручения Нобелевской премии, в общем восторженном хоре СМИ четко прозвучала «ультрапатриотическая» нота – Алфинзбург-де «продал за эту Иудину пенсию» свое достоинство хрестьянина-рассеянина, распивая в Стокгольме «на троих» с «фашистским выкормышем Креммером и америкосским диверсантом Эвереттом». При этом в качестве ссылки использовались как официальные биографии нобелиатов (а именно оттуда и был взят образ «фашистского выкормыша» Креммера, который родился в 1928 году в Германии и был, разумеется, буквально вскормлен на «нацистских хлебах» - других тогда у Креммера просто не могло быть!). А вот что касается Эверетта, то тут следовали туманные ссылки на «хорошо информированные источники из кругов бывшего КГБ». И почему-то в связи с этим всплыло имя Филиппа Горошкова, хотя всем было известно, что он в 5-м Управлении КГБ занимался диссидентами. Но как можно связать диссидентов с Эвереттом? Поэтому чуть позже последовало уточнение, что «диверсантом» Эверетта назвали за его участие в молодости в работе пентагоновской «Группы планирования ядреных ударов по Рассее». Мне же кажется, что фамилия Ф.Горошкова всплыла не случайно. В советские времена самостоятельное изучение «летающих тарелок» и вообще уфология приравнивалось почти к антисоветской деятельности, а потому все, что с этим связано, должно было проходить «по ведомству Горошкова», его знаменитому 5-му Управлению. И если о причастности Эверетта к этим проблемам знали (и говорили об этом после 1977 года!) тогдашние наши уфологи, бывшие под колпаком у Горошкова, вставал серьезный вопрос действительно государственного значения – среди аналитиков и консультантов КГБ и ГРУ могли быть или болтуны, или даже «кроты»… По поводу работы Эверетта на Пентагон у нас разгорелась даже короткая, но бурная дискуссия на радиостанции «Эхо Моквы». То, что она была бурной, видно по составу приглашенных участников: Вольф Ширинковский, Филипп Горошков, Альберт Какашов – с одной стороны, и Григорий Мессеинский, Борис Дойчев, Ирина Хакадама – с другой. И ещё «научный эксперт», физик Михаил Вименский. «Две команды «на троих», в любимом для академика Алфинзбурга формате», - как представил их ведущий передачи известный своей невероятной непотопляемостью радиожурналист Алексей Бенедиктов. Эксперт начал с «поклона влево»: «Разумеется, вся теория Эверетта – это очень субъективно, и большинство физиков даже в области квантовой информатики пользуется обычным квантово-механическим языком». Но тут же сделал и поклон вправо: «Однако в концептуальных проблемах интерпретация Эверетта, безусловно, дает новое качество». Но про эти поклоны никто из участников дискуссии и не вспомнил – тут было не до «физических тонкостей», ибо в студии быстро запахло «физическими воздействиями». «Можно ли сомневаться в том, что причастность Эверетта к людоедским планам Пентагона является исчерпывающим вопрос фактом?», - спрашивали одни. И сами отвечали: «Нет, нельзя!». «Но действительно ли эта причастность исчерпывает вопрос о недопустимости награждения Эверетта Нобелевской премией и, тем самым, о недопустимости высшей оценки его как ученого?»,- отвечали вопросом на вопрос другие. И тоже сами отвечали: «Тут мы вступаем на «минное поле» построений Гёделевского толка, успешный проход по которому гарантирует только нормально развитое нравственное чувство, которое, как известно, присуще далеко не всем обладателям общедоступных чувств слуха, зрения, обоняния и осязания…». Этим они интеллигентно намекали на нравственную неполноценность своих оппонентов. Вскипев, эта дискуссия быстро утихла – время «прямого эфира» скоротечно, а обсуждать что-либо вне пределов студии популярной радиостанции эти команды не могли органически. Они и «среди себя», друг с другом-то, говорили «сквозь зубы», и, если бы студийная служба безопасности имела более совершенную аппаратуру, она наверняка извлекла бы из-за пазух «героев радиоэфира» кучу вполне увесистых «идеологических» камней… Эта встреча прошла в позднекрущовском «небоскребе» на Новом Арбатове, длиннющий коридор 14-го этажа которого завешан таким количеством портретов наших знаменитостей, что сразу становится понятной причина непотопляемости сидящего в одной из его комнатушек пышногривого интеллектуала Бенедиктова. Попадание в эту портретную галерею означает признание твоей популярности именно «по Гамбургскому счету». С каким знаком была эта популярность – вопрос десятый. И закрыть такую PR-площадку мог бы только мужлан с менталитетом «Стального Вождя». Слава Богу, у нас до такого даже от сегодняшнего нашего положения было далеко. А завершилась дискуссия вполне предсказуемыми результатами – болотистая отечественная интеллектуальная почва изгладила ее следы, и всё осталось «как всегда». Так что, затевая какую-то общенациональную «прю словесную» или даже референдум, следует помнить об этих особенностях нашей ментальной почвы и не питать иллюзий относительно прочности фундамента возводимых на ней построений. … А я и не питал никаких иллюзий – глаза мои ясно видели, что самому фундаменту ничто не угрожает, а прорвавшиеся через промоину талые воды – это результат невероятно снежной зимы и бурной весны. За пол-дня работы хорошего землекопа – такого, как памятный мне герой-сокрушитель сибирской мерзлой глины – и при вложении в дело двух мешков цемента и пары тачек песка, все будет ликвидировано с гарантией. Успокоившись на этот счет, я с легким сердцем вернулся на веранду, выключил радиоприемник, призывавший принять участие в очередном розыгрыше призов радио «Эхо Моквы», взял старое, ещё из Тормасоковских времен лукошко, позвал давно ждущую окончания моей работы Нателлу, и мы отправились в июльский лес, полный синих лисичек, зеленых подосиновиков и разноцветных сыроежек… О том, что даже чистая трубка может оказаться горькой, о последних деловых соображениях этого дня, подготовке к заслуженному отдыху и начале перехода к истинному облику автора этих записок. Если встречался нам Змей шестиглавый Меч-кладенец вынимал я и в битву Смело бросался и бился со славой, После победы читая молитву. Несмотря на то, что я за время вечерней работы сменил в трубке фильтр, и выпил три кружки прекрасного чая с беграмотом, закусив при этом несколькими воздушными печениями, во рту было горько, язык горел и ныл, а веки держались открытыми только за счет усилий воли, которая подставила под каждое по две виртуальные спички. Перевод и осмысление письма Эверетта, как оказалось, давно «съели» тот временной запас, который я решил использовать для сегодняшней работы. Я оторвался от монитора. Из зеркальца на меня смотрела совершенно осоловевшая, но все-таки уже нормальная человеческая физиономия с усталыми, и как будто потрескавшимися от напряжения глазами, капиллярные нитки которых больше не изображали пауков, а, скорее, походили на кракелюр старых портретов. На циферблате будильника, стоявшего рядом с зеркальцем, было половина третьего, а на мониторе компьютера, в правом нижнем углу, горели цифры 02.23. «Нужно бы подвести стрелки будильника», - подумал я, но поленился поднять руку и сделать это. Самолет в Иркут, от которого до Амгарска было полчаса на такси (встречать меня, как нужного им человека, на АНЗешной машине мне предлагал Александр Петрович, но я отказался, чтобы не производить впечатления «бедного родственника» и – что не менее важно! - не повышать класса бонуса, полагавшегося ему за услуги) вылетал в двенадцать. Следовательно, из дома нужно было выходить в восемь. А вставать – с учетом утренней прогулки с Джимом, который сейчас уже спал на кафельном полу прихожей, свернувшись калачиком у входной двери и изредка прядая своими большими лохматыми ушами – нужно было и вовсе без четверти семь. Да, ложиться спать следовало срочно, и я, даже не сыграв партию в любимый «Солитер» для «успокоения нервов», решительно нажал кнопку отключения компьютера. Он взвизгнул. Наверное, это больно – вот так «вывалиться» из реальности, покинув мир «без причащения и отпущения грехов». (Я всегда чувствовал себя «немного убийцей» при выключении компьютера – уж очень многое в нем напоминает человека). Угасая, компьютер что-то гневно сообщил мне на аглицком в выскочившем на экран монитора окне (ох, забыл наверно, что-то сохранить!...), потом затих, и экран со щелчком потух. Да! А как же принятое за неукоснительное правило «хоть что-то серьезное почитать перед сном»? Пусть минуту, пусть две – но правило есть правило. На столе лежит стопка книг. Беру первую попавшуюся (это оказался «Улус» Джайса) и открываю наугад: «Жизнь – множество дней. Этот закончился». Верная констатация!.. Ну, ещё разок попробую… «Бог, солнце, Шекспир, коммивояжер, достигнув пересечения с собою в самой реальности, обретают самих себя. Себя, какими они в себе были неотменимо предобусловлнеы стать…» Нет, это уже не вмещается в усталый мозг, хотя и явно содержит что-то весьма важное и, безусловно, достойное подробного рассмотрения. Но сил у меня больше нет ни на какие умственные усилия, и я закрываю книжку. Всё! Спать!!! Подготовка ко сну занимает у меня от силы две минуты – сбросить одежду, скинуть покрывало с кровати, щелкнуть выключателем и, сделав пару шагов уже в темноте, вытянуться на спине с заложенными за голову руками. Это – первая фаза. В такой позе я пребываю пару минут - пока не затекут руки - и за это время успеваю вспомнить все главные события дня. После этого я поворачиваюсь на правый бок, руки ложатся под голову, мысли начинают путаться, всплывают какие-то смутные образы, тело сладко легчает, образы приобретают конкретику, но, одновременно, я все ещё слышу и шум проехавшей мимо окна машины, и вздох с почесыванием Джима в прихожей, и отрыв капли из подтекающего кухонного крана. В какой-то момент по телу пробегает сладкая судорога, которая ещё ощущается сознанием как событие здешнего мира, а дальше… Время перестает течь плавно, последние границы между сном и явью тают, и я, наконец, спокойно, не удерживая себя «здесь и сейчас», погружаюсь в другую реальность – истинную реальность своего мультивидуума, существа неописуемой сложности, эвереттического змия с гуголами голов (куда там до него сказочному «шестиглавому»!), живущего мириадами жизней в миллионах различных ветвей Мультиверсума, для которого сегодняшний день со всеми его проблемами - не более чем мгновенный красно-оранжево-желто-зелено-голубо-сине-фиолетово-риново-неолово-синатовый блик на мельчайшей чешуйке его шкуры. Погружаюсь для того, чтобы через очередное из бесконечного ряда воплощений моего «Я» дать свободу бытия или отяготить его бременем какую-то другую чешуйку, волосок, жгутик этого эвереттического змия. Единственное, чего я боялся – это возможности совершить во сне убийство или самоубийство вследствие падения «берлинской стены морали» при наступлении блаженного единения со всеми членами своего мультивидуума, ужасаясь несоизмеримости категориальных способностей, помещающихся в мозговых извилинах. Вот только почему?.. - Что это, Игорь Петрович? Откуда здесь чужие вещи? До сих пор я был хозяином в этом кабинете! И все, что здесь появлялось и делалось, было обусловлено только моей волей! Он резко закрыл дверцы. В последнее мгновение, перед тем как сомкнулась щель между ними, порыв воздуха, возникший от резкого движения рук Василия Васильевича, ударил в висевшие на вешалках костюмы. Они чуть шевельнули рукавами, как будто делая отмашку, и Василий Васильевич, побледнев, начал оседать на пол. Я вскочил со своего кресла, подхватил его обмякшее тело и посадил за стол. - Василий Васильевич! Успокойтесь и возьмите себя в руки! Посмотрите: менора и часы стоят СЛЕВА от Вас, а записку Вы положили в ПРАВЫЙ ящик стола. Но Мефодий нашел свою в ЛЕВОМ, под менорой и часами! Значит, это было не У НАС, а в каком-то другом, параллельном мире! И костюмы эти – для разных воплощений «анти-Я» вашего мультивидуума при очередном его появлении «у нас». Вы просто случайно попали в его гардеробную, когда он ещё не решил – в каком обличье он будет (или не будет!) противостоять вам сегодня в этом мире. Но реальность того, будет ли он «здесь и сейчас», зависит от результата декогеренции нашего с вами сегодняшнего состояния и его намерений. Теперь давайте посмотрим – что же сегодня нас ждет. Я подошел к шкафу, открыл дверцы, и мы оба увидели ряд полок, на верхней из которых лежала великолепная итальянская трубка и изящная трубочная зажигалка с боковым факелом, сделанная в форме компьютерной флэшки… Второе Дело вкуса, или что может быть, если выпить утром чашку кофе «Мысли отливаются в слова, слова связываются между собой, образуют синтаксические блоки и части фраз; возникают темы, они развиваются, ветвятся, подобно струям потока, поворачивают, переплетаются меж собой – и все это льётся, не обрываясь, без конца струится и течёт…» Эс.Хоружий, 666. Утренний морок Ефим Семенович был благодушен и расслабленно откинулся в своем любимом кресле перед рабочим столом, стоявшим у дальней стены его обширного кабинета. Слева, за широким окном, раскинулась панорама Морквы-реки с фигурками стоящих на набережной рыбаков, одетых в голубые комбинезоны. Заходящее солнце уже сменило свой цвет с полуденного неолового на вечерний оранжевый, который и проложил по темной воде красиво дрожащую полоску с риновым оттенком, на фоне которой рыбаки смотрелись очень красиво. На столе лежала «особая красная папка» для важных документов. Я сидел на своем обычном месте, у шкафа, а перед Ефимом Семеновичем пустовало кресло «для гостей», ожидавшее прихода с минуты на минуту молодого хлыщеватого порученца-«инкассатора» из «Росценка». Ефим Семенович улыбнулся, одновременно виновато и залихвацки, как-то особенно приветливо посмотрел на меня, и вдруг предложил: - Ну, конец – делу венец! Подпишем бумаги, спровадим этого «инкассатора» – и по рюмочке «Морквы Златоглавой» со льда! У меня тут в баре припрятана одна старая, ещё из «Березки», бутылочка… А под это дело и об эвереттике вашей поговорим! Предвкушая глоток этого ледяного наслаждения, он взял в руки папку, раскрыл ее, недоуменно посмотрел на содержимое, потом – со страхом – перелистал все бумажки, и, наконец, вопросительно и озадаченно уперся взглядом в меня. - Что это, Георгий Евгеньевич? Откуда здесь эти стишки про звон колоколов? Где текст Договора и Аккредитив!? И куда пропала эта «бумажка»?? Она ведь стоит двадцать один миллион!!! До сих пор я был хозяином в этом кабинете! И все, что здесь появлялось и делалось, было обусловлено только моей волей! Он резко закрыл папку. Возникший при этом порыв воздуха выхватил из нее какой-то листок, который кругами стал планировать на пол. Ефим Семенович, побледнев, начал оседать, валясь на бок… Об особенностях утреннего пробуждения, цвете Государственного флага, воспоминаниях о вчерашней зарплате, истории наименований и переименований Морквы, обстоятельствах начала трудового дня, а также о выборе кофе в качестве утреннего напитка и рецептуре его приготовления. …Все мне снится, снится сила духа, странный и раскованный талант. Кто же я, художник ли без слуха Или же незрячий музыкант? Я очень не люблю первые полчаса после пробуждения. Каждый раз, осознав, что я проснулся, я с неприязнью жду включения в жизнь. И с неизбежным раздражением отслеживаю работу какого-то внутреннего оператора. Он коммутирует связи в блоках памяти, отключая линии сновидений и включая воспоминания о самых близких, о прошедшем дне, о том, что столица Мадагаскара - Атананариву, что постоянный ток изучали Ом и Ленц, о цветах нашего государственного флага – знаменитом «белорике» - бело-риново-красном триколоре. Никак, кстати, не могу запомнить, что символизируют его цвета – белый, кажется, благородство и чистоту помыслов, риновый – цвет солнца в ясный полдень, красный – цвет крови и прекрасного цветка. Или я что-то путаю? А оператор продолжает свою работу, начиняя мой мозг тем, что составляет мое индивидуальное «Я» в этом мире, отвечая мне на незаданный, но важный вопрос – «Кто же я, художник ли без слуха, или же незрячий музыкант?». Вот подключилось воспоминание о вчерашнем дне. Это был день важных решений и знаковых событий. И важнейшее из них – новый порядок выплаты зарплаты, а потому помнился с особой яркостью. На этот раз она была как пенсия в той репризе, которую я однажды услышал по телеку – «маленькая, но хорошая». Маленькая потому, что дела идут все более «под уклон» и доходов едва хватает на «поддержание имиджа» - выплату «внештатным сотрудникам». А хорошая потому, что всё-таки была, что ее, как бы то ни было, хватит на ближайший месяц, а там – либо фарт, наконец, «начнет работать», либо картошка на огороде поспеет. Так что в любом случае перезимуем! На кухне было уже жарко – утреннее солнце успело ее прогреть. Ната с Яшкой вот уже третий день на даче, так что спешить мне особенно некуда – выгуливать меня Яшка не потащит, а Ната не предложит выгладить новую летнюю пару, поскольку, оказывается, по моему пиджаку и брюкам «уже можно читать как по меню ассортимент напитков вашего буфета». Так что кофе пить можно спокойно, времени еще и на славную трубочку останется! Я заварил покрепче (две с половиной чайных ложки «Чибо» и ложка сахарного песка), открыл новую банку сгущенных сливочек, взял чистую трубку и, набив ее шелковистыми волокнами «Cerry Choice», погрузился в изучение результатов работы внутреннего оператора. Кофе, сливочки и ароматный дым – «утренний набор джентльмена», не потерявшего ещё вкуса к жизни!.. Сегодняшняя ночь требовала крепкого кофе – я лег в начале пятого. А дела на сегодня были важные и требовали ясности мысли – за мной должна была заехать машина и мы с Еленой Никоновной и Пегем отправимся в банк. А пока я пил кофе маленькими глотками, покуривал трубочку и читал историческую справку в афишке какой-то туристической фирмы которую достал вчера вечером из почтового ящика и бросил, не читая, на кухонном столе: «До XII века город носил название Кучково по имени боярского рода Кучки, владевшего издревле «кучкой холмов числом 7». Потом, после того как Георгий Долгодланный убил боярина Кучку и увел его красавицу-жену, город получил новое название – Мосох – в честь своего «исторического основателя», Мосоха, сына Иафета, сына Ноева. С течением времени название трансформировалось в Мосох-ква. Последние три буквы свидетельствовали о неизбывной влажности места. И вот в XVI веке в здешних краях появляется морковь – растение, идеально приспособленное к местным суглинкам и местному лету – частенько дождливому и прохладному. Морковь попадает в «Домострой», популярность ее возделывания стремительно растет, и в XVI веке она становится «царской едой» - русские пироги с морковью становятся обязательными на разнообразных придворных торжествах. Именно в это время и происходит окончательное переименование города. В 1574 году «рядовой князь рюриковского рода» Иван Васильевич пишет государю в Столицу из Александровской слободы: «Государю великому князю Симеону Бекбулатовичу Морковскому Иванец Васильев со своими делишками челом бьет». Так и стали с тех пор называть резиденцию царя – Морква. Это название прижилось тем более легко, что, как отмечают исследователи, « известна давняя любовь морквичей ко всему красному - "Красная площадь", "Красные ворота" и т.д.». А морковь по народному понятию именно красная – нет в русском фольклоре понятия «оранжевый». (Прочтя это, я для себя отметил - к вящему облегчению одних и сугубому огорчению других политтехнологов!). И уже известный питерский поэт обобщил эту любовь руссиян и к городу и к его хлебосольству знаменитой строкой: «Морква - как много в этом слове для сердца невского слилось!»» Не знаю, насколько все это верно… Вот вчера, как раз перед «исторической» зарплатой, Илья Давидович подозвал меня к своему компьютеру и показал какую-то игру под названием Lineage2, где в объяснениях было сказано, что слово Морка (Morka) - символ низкой хитрости, поражает своих противников исподтишка, когда они не смотрят. Показал он это явно для демонстрации своей проницательности. И намека – уж он-то видит глубоко! Но я намека «не понял». А вот сейчас подумал, в связи с прочитанным, что, поскольку в значении окончания (или второго корня?) «ва» или «ква» все филологи однозначно видят значение «вода», «мокрота», то слово «морква» в стиле игры Lineage2 вполне можно истолковать и как нечто, способное «замочить» исподтишка. Хоть в постели, хоть в сортире… В голове же гудело – нащупанное ночью решение проблемы склеек ещё не уложилось как следует в сознании и потому не отпускало внимания. Однако угнездиться ему не удалось – раздалась так и неидентифицированная мною «ария мобильника» и голос Пегего сказал: - Доброе утро, Георгий Евгеньевич! Мы у подъезда… Я быстренько оделся и, с сожалением оставив до вечера кружку, ещё на ¾ полную ароматным «Чибо», вышел на улицу. В машине было уютно – шеф дал свою, а у него кондиционер был в полном порядке! И я очень быстро задремал, оставив за спиной о чем-то переговаривающихся Пегего и Елену Никоновну и сосредоточенного Самвела за рулем. Сознание развернуло передо мной картину событий последних недель… О роли случайности в возникновении тематики переработки фарт-ценка, постановке задачи создания бизнеса на этой основе, первом о нем совещании и начале первой командировки по этой теме, а также о социальном составе пассажиров метро в воскресное утро и слабости его влияния на ход производственного процесса, если в нем участвует Александр Еремеевич. …Та самая… Та, что осмелится сметь, Твоих завтрашних замыслов Воображаемый оттиск. Дай мне фосфор и синтез белка И одень меня в медь И на пир пригласи, Как смелейшую в сонме гипотез. Как выразился когда-то наш златокудрый поэт-дебошир, «Помни: то вовек благословенно, что пришло отцвесть и умереть». Помнить-то об этом следует, но, чуть утрируя любимое выражение Ильи Давидовича, можно и посетовать: «память – не тётка, пирожка не даст!». Когда «идея высокооктановых добавок» в бензин исчерпала себя с точки зрения нашего бизнеса (у их производителей наладились и сырьевые и сбытовые связи), возникла необходимость поиска нового источника «хлеба насущного». И тут помогла одна случайность. (Как, впрочем, и происходит в большинстве ситуаций – просто мы не каждый раз замечаем ту развилку бытия, которая выводит нас на новую дорогу). Один из наших «гостей» в болтовне за чашкой кофе, после того, как ему удалось уговорить Ефима Семеновича на отсрочку платежа цистерны метилтретбутирового эфира, рассказал, что при последнем ремонте их пригородной автозаправки в Петрофабриченске им удалось значительно сэкономить на краске – вместо дорогих ценковых белил они купили гораздо более дешевую «белую ночь». Эта краска производилась на каком-то заводике бывшего Министерства местной промышленности из каких-то отходов, а потому и стоила дешевле. А по виду она, конечно, уступает настоящим ценковым белилам в ясный солнечный день, но оказывается даже более яркой в пасмурную погоду. Тут действует какой-то оптический эффект, связанный с рассеянием риново-синатового участка спектра и флуоресценции входящих в сырье «белой ночи» примесей. (Впоследствии стало ясно, что дело заключалось в присутствии примесей свинца. Только совсем недавно появились сведения о том, что «разработана технология горячего ценкования, исключающая содержание свинца в ценковом расплаве). - А, - доверительно поделился с нами информацией гость,- клиента нужно особенно радовать и привлекать как раз в хмурь, в ясный да погожий летний день и без всякой раскраски народу на заправке много – все стремятся «на природу». После ухода гостя Ефим Семенович вызвал Лукерью Федоровну, Беллу Борисовну, Тамару Петровну, Александра Еремеевича и меня. (Петр Гейдарович был в отпуске – с женой и дочками лазил по ущельям Крита, Илья Давидович и Сергей Иосифович - в командировке, а Самуил Лазаревич – где-то в Австралии на Конгрессе по проблемам очистки газообразных выбросов от «парниковых газов»). Была поставлена задача – узнать все про местпромовские лакокрасочные заводы, источники их сырья, рынки сбыта и «пощупать руководство» на предмет возможного сотрудничества. Деньги «на раскрутку» Ефим Семенович обещал добыть «у мальчиков» - его знакомых банкиров – и «пусть это вас не волнует!». Мол, будут идеи – будут и деньги. А для «смелейшей» в «сонме гипотез» - большие деньги! Уже через два дня состоялось новое совещание у шефа, на котором подводились итоги первой разведки. Наши «барышни» быстро выяснили, что местпромовские заводы в качестве сырья для своих белил используют не чистый металлический ценк, а отход горячего ценкования – фарт-ценк, сплав ценка с железом. И пока ещё на этом поле не всё было «схвачено» - у гигантов металлургии и машиностроения до работы с отходами «руки не доходили», а у мелких местпромовцев не хватало денег ни на само сырье, ни на подобающую «смазку вопроса» - «металлургические генералы» стоили дорого. Короче, стало ясно – это «наше поле»! Тамара Петровна сразу предложила реальную схему – брать фарт-ценк в Магнитограде, где было огромное производство жести, требовавшее несметного же количества ценка и производившего в качестве отхода – по нашим меркам, разумеется – «немерянное количество» фарт-ценка. А дальше распределять эту реку фарт-ценка по отдельным каналам местпромовских лакокрасочных заводов. Лукерья Федоровна уже связалась с пятью лакокрасочными заводами и везде заручилась обещаниями о желательности такого рода сотрудничества «если будут предложены приемлемые условия». «Все хотят кушать, - поделилась она своими наблюдениями,- все они мелкие, жадные и «на все готовые»». Белла Борисовна уточнила, что в качестве заводов-переработчиков могут использоваться не только бывшие местпромовцы, но и «нормальные» лакокрасочные заводы. Например, в Челядьевске, где один оборотистый начальник цеха сумел выделиться в самостоятельное предприятие и теперь искал независимые источники сырья. Александр Еремеевич Вольский, как бывший экономист-плановик (он занимался этим ещё в ЦИАПе, до перехода на работу к нам), сообщил, что, по его прикидкам, один только Магнитоград может прокормить всю нашу команду. При нынешнем объёме производства, разумеется. Нужно только суметь убедить кое-кого в Магнитограде, что фарт-ценк – действительно отход (как уже выяснила Лукерья Федоровна, его одно время в Солнцеграде под Морквой сбрасывали в местный овраг), так что цена ему – сушеный рубль в базарный день. На это он получил немедленную и вполне ожидаемую реакцию Ефима Семеновича: - Ну, вот и поезжайте, убедите этого «Кое-кого»! Деньги на командировку и штуку «под солнцем блистающих» для начального знакомства получите у Елены Никоновны. Скажете, что сумму со мной согласовали. Он помолчал, что-то прикидывая в уме, а потом добавил: - Вот и Георгий Евгеньевич давненько в тех местах не бывал и фольклора тамошнего не слышал. И ему будет интересно тамошние пейзажи художественно запечатлеть своей мыльницей. Понятно… Мне предлагалась роль «носителя портфеля», но с перспективой сделаться куратором нового направления, поскольку эта первая командировка была той почкой, из которой могла пойти новая ветвь бизнеса. Что ж! Спасибо шефу – он дает мне шанс… Ефим Семенович ещё немного подумал, и присовокупил вдогонку своей последней мысли генетически-начальственное: - Мыльница - в свободное от работы время, естественно… И вот что ещё… Время у нас пока есть, а денег – тоже пока! – почти нет. Вы это по зарплатам своим ощущаете только раз в месяц, а я, по отчетам Елены Никоновны да цифрам на нашем банковском счете - каждый день… Так что на этот раз обойдетесь без чашечки кофе от стюардессы - поедете в воскресенье утренним поездом. Выйдя из кабинета, мы переглянулись с Вольским. И без разговоров было понятно – после неудачи с реализацией «нашей добавки» в Амгарске (тамошние технологи смогли сами модифицировать режим для достижения приемлемого качества и выхода бензина), наступила полоса «жесткой экономии» на всем, в том числе, разумеется, и на командировочных расходах. И вот теперь мы вернулись на уровень «Бориса дней прекрасного начала», когда ездить приходилось чуть ли не на ослах. Но тогда верилось – это временные трудности становления. Вот «раскрутимся» мы, развернется руссийская экономика – и заживем, как «у Рокфеллера на ранчо». А вот от того, что теперь снова нужно куда-то ехать чуть ли не «на третьей полке возле туалета» стало откровенно грустно… Однако, «делать нечего! Портвейн он отспорил»,- как поется в популярной когда-то песне одного из последних ныне живущих могикан-шестидесятников Владимира Высоцкого. И мы договорились с Александром Еремеевичем встретиться непосредственно в купе поезда, чтобы не отягощать себя ожиданием друг друга где-нибудь на станции метро. …Воскресным летним утром в метро народу не очень много. Правда, количество ручной клади на душу каждого пассажира значительно больше, чем в обычные дни – сумки-тележки, просто сумки, корзинки, рюкзаки, палатки и даже баулы с надувными катамаранами и связками дюралевых трубок (элементов мачт этих чудо-плавсредств). Оно и понятно – дачники и туристы в это время составляют большинство в массе пассажиров. Все это создавало проблемы для тех, кто легкомысленно назначал встречи в традиционных местах «у первого вагона по ходу поезда», когда оказывалось, что на пятачке у одной скамейки сталкивались две компании грибников со своими друзьями – фоксами, эрделями и другими четвероногими представителями городской фауны… Я пробрался сквозь такой «грибной колхоз» на «Коммунарской». У кого-то из молодых людей даже висел на груди плакатик «В Емельянов за грибами!». С приятным удивлением я подумал, что вот не вся же современная молодежь поражена наркотическим дурманом – прямо передо мной были почитатели микологии и здорового образа жизни! И, тем не менее, я с удовлетворением отметил нашу с Александром Еремеевичем предусмотрительность – встреча в купе не отягощала ожидания толкотней в месте сбора энтузиастов-грибников. Но когда по вокзальному радио объявили, что до отправления поезда осталось пять минут, я начал слегка беспокоиться – Вольского все еще не было. Легкое беспокойство сменилось почти унылостью, когда мимо окон поплыла платформа, а я по-прежнему в одиночестве сидел в купе, соображая, как я буду себя вести в Магнитограде без своего «ведущего специалиста» и того маленького, но столь важного конвертика, который сейчас пребывал где-то в недрах командировочного чемоданчика Александра Еремеевича. Минут через пять после отправления дверь купе резко отъехала в сторону и в дверном проеме показалась столь знакомая солидная фигура – Александр Еремеевич собственной персоной. Персона эта тяжело дышала и обливалась потом, а на лице была виноватая, но жизнерадостная улыбка - он успел вскочить в последний вагон отправляющегося поезда, а задержался и по причине «бытовых проблем» (он по утрам гуляет со своей собакой) и потому, что попал уж в очень конфликтную компанию грибников-рыболовов на «Коммунарской». Но это все было уже неважно – он успел, и командировка началась… О ностальгических воспоминаниях первых часов первой командировки, начале нашей производственной деятельности, видах общественного транспорта, использовавшегося нами тогда, обстоятельствах, возникавших при этом, а также немного о шахматах, вкусе водки «Волжанка», невольном нищенствовании и позе «три погибели», однажды принятой Александром Еремеевмчем. Хочу соврать и не совру, Как ни мучительна мне правда. …………………………………… Мне вспоминать сподручней, чем иметь. Когда сей миг и прошлое мгновенье соединятся, будто медь и медь, их общий звук и есть стихотворенье. Поездами мы уже давно не ездили. С тех славных времен, когда только начиналась наша деятельность, и мы жили на реализации ещё старых технологических разработок, вынесенных прямо в головах с тонувшего в условиях рынка ЦИАПа (агрохимическая промышленность и без его, центрального института, помощи, тонула весьма успешно)… А вынесли наши головы весьма полезную технологическую «мульку» (или, как стало принято говорить в последнее время – «ноу хау») – оригинальную систему водоподготовки. Тогда приходилось колесить по заводам Руссии в поисках заказчиков. Точнее, в поисках платежеспособных заказчиков. Это было большой редкостью в начале 90-х годов! В те времена обычно нам не платили деньгами, а рассчитывались «натурой» - чем-то, как правило, не очень ликвидным, из номенклатуры выпускаемой продукции. Делали одни, положим, каустик – бери цистерну каустика и промывай ею канализацию целого Мухо-Спамска. А деньги уж с мухоспамцев и получай как отчисление с коммунальных платежей в течение года! А другие делали ядохимикат – изволь получить сотню бочек такой замечательной дряни, что для десятка-другого миллиардов каких-нибудь колорудских оглоедов является «летальной дозой» (Не в том смысле что оглоеды улетят, а в том, что окочурятся). И распространяй его по канистре на каждое садовое товарищество «Наши Шесть соток». Дачники-огородники будут руки за это целовать и платить по сто рублей за канистру. И бегай с этими канистрами за ста рублями по всей морковской области… На таких схемах мы учились химическому бизнесу. И ездили в командировки на междугородных автобусах и в поездах на плацкартных местах. Чего только не привидилось нашим глазам в тот «критический момент» истории всех институтов нашего социума – от малого бизнеса и до общественного транспорта! Автобусный маршрут Козлодоильск - Морква. Расхлябанный ПАЗик, который то садится в яму на 18 километре «трассы» от Козлодоильска, то у него кончается бензин на 97 километре. В его багажном ящике – три тщательно закупоренные бутылки с образцами. Это - предложенная тебе в качестве оплаты за выполненную модернизацию их градирни продукция «козлодоильской фабрики парфюмерии и бытовых химикатов». Из ящика исходит такой дух, что, проникая в салон, вызывает даже у «видавших виды» козлодоильских твоих попутчиков недоуменное переглядывание и принюхивание то к собственным рукам, проверившим предварительно состояние поверхности своих «к обеднешних» штанов, в коих их владелец едет в столицу, то к горлышку бутылки, торчащей из кармана соседа… Вагон плацкартного сообщения Морква – Сестробратск. Один комплект серого, влажного, пахнущего хозяйственным мылом (или, как изящно выражались чуть позже в телерекламе – «Обыкновенным стиральным порошком») постельного белья на двух пассажиров – это только невинные цветочки! А не хотите ли клофелинчику на сон грядущий? Даже не в водку (с незнакомыми пассажирами пьют только генетические халявщики, которых среди племени командированных практически не бывает), а в обыкновенный чай? Не буду говорить о возможности остаться без билета за 1 минуту перед отправлением – ловкость рук поездных щипачей и мошенников описать словами просто невозможно! Но это все ситуации типичные, многократно описанные. Встречаются же и случаи уникальные. Однажды мы с Вольским ехали на завод в новгородской глубинке. Для того, чтобы попасть туда, нужно было сделать пересадку на местный поезд. Наш прибыл на станцию пересадки около половины четвертого утра. Местный отходил в десять. Спать хотелось ужасно! В зале ожидания маленького вокзальчика нас оказалось трое – мы и ещё один странный тип то ли бомжеватого, то ли колоритного местного вида – в июне месяце в телогрейке и треухе! Правда, ночь была довольно свежая, моросил дождичек, и пережидать время в помещении было явно лучше, чем на привокзальной скамейке. Мы сели на свободные скамьи (благо выбор был!) подальше от странного попутчика. Он же занял место в самом темном углу и как будто растворился в призрачном времени «между волком и собакой». Я (да и Александр Еремеевич) начал уже подремывать, пригревшись на своем жестком деревянном пристанище. Уже поплыло перед глазами и что-то такое теплое и приятное начало грезиться… И вдруг в эти грезы буквально ворвался прогремевший из угла голос: - Конь Бэ один бьет на Аш пять! Я мгновенно «включился» («дежурную сеть» нейронов мой внутренний коммутатор, вероятно, предусмотрительно оставил на всякий случай). Тем не менее, на это включение секунда-другая все же потребовалась. В предрассветном сумраке все было спокойно и только какой-то сумасбродный овод сонно жужжал у стекла за моей спиной. Откуда пришло странное сообщение, я так и не понял. Но создалось ощущение какого-то ритмического единства – виолончельная партия овода слилась с ударником слов – «их общий звук и есть стихотворенье»… Я снова устроился поудобнее и снова задремал. Но заснуть «как следует» не удалось. Тот же «иерихонский глас» сообщил, что: - Ладья бьет Аш пять! На сей раз пробуждение было настолько быстрым, что я успел разглядеть колыхание треуха в такт координатам клетки h5. Источником шахматной информации был именно он, а вернее – его хозяин, встретив которого днем на перроне его можно было принять либо за местного «дурачка», либо за экстравагантного грибника, да даже и за депутата Марысева из действовавшего тогда состава Госдумы, но за шахматиста, разыгрывающего партии в уме – никогда! Чуткая дрема не успела накатиться на глаза, как я узнал следующий ход белых. После этого я уже не мог отключить сознание ни на секунду, ожидая продолжения партии. И раз в пять – семь минут «противник» делал очередной ход. Я даже попытался включиться в анализ игры, но, вспомнив первый услышанный мною ход белого коня понял, что имею дело с трансляцией партии из какого-то параллельного мира – в нашем кони так не ходят… Александр Еремеевич, тоже, видимо, мучался, будучи не в силах осознать логику ходов, но, также как и я, был зачарован регулярностью и апломбом этих кратких интригующих сообщений. Через полчаса мы встали и пошли искать другое место для ночлега. Оказалось, что дождь уже кончился и лавочка под раскидистым кустом сирени достаточно удобна для выполнения стоящей перед нами задачи – дождаться нужного нам местного поезда – а прохлада июньского раннего утра гораздо более терпима, чем нервический поток информации то ли из виртуального «шахклуба», то ли из темных глубин подсознания телогрейчатого аборигена. Правда, совсем избавиться от шахматной темы не удалось, и в полудреме мне посчастливилось додуматься до некоей жертвенной комбинации, где я отдавал вокзальному незнакомцу, который в этом моем полусне поверх своей телогрейки надел черный фрак, ферзя, уповая на изящный выигрыш в два-три хода… Мы вспомнили этот эпизод, когда Александр Еремеевич слегка отдышался от своего забега вслед уходящему поезду под мерный стук колес и в такт ему колыхание эллиптических поверхностей воды в стаканах чая (кипяток мы взяли прямо из вагонного «титана», а заварку бросили из фирменных пакетиков – клофелиновые истории были нам знакомы не по наслышке). Ехали мы все же не в «плацкарте», а в СВ, на мягких полках – при всей экономии возить конверты в простом купейном вагоне было слишком рискованно, а сейчас этот конвертик с набором наших «визитных карточек» - блестящих с одного конца бумажек с портретами то ли Гоминьдана, то ли Хирохито - спокойно лежал в кейсе Вольского. Он был в нашей паре «ведущим». За окном ещё только проплывали башни Голутвинского монастыря под Четверговском, впереди – больше двух тысяч километров пути, так что времени для воспоминаний было вполне достаточно. Вспомнили мы как однажды лютой зимой где-то на Урале мы спешили на поезд, взяв «частника» - времени уже оставалось в обрез – и вдруг за пару километров до станции мотор «чихнул» и замолчал… Ремонт в пути – это отдельная тема, но и без подробностей ясно, что зимней ночью удовольствия он не доставляет ни водителю, ни пассажирам. А тут ещё и наш, «морковский» поезд, простучал колесами в зимней ночи и, коротко прогудев, отправился дальше, совершенно не заботясь о том, что «отдельные его пассажиры» стоят в морозном поле в двух километрах от пустующих и проплаченных ими полок! Закончилось то приключение (как, в конечном счете, и каждое приключение в жизни) благополучно – водитель починил мотор и потом догнал ушедший без нас состав на следующей станции, благо автодорога туда была короче железнодорожного пути. Зимние воспоминания (вероятно, по контрасту с нынешней жарой, с которой не справлялись даже купейные кондиционеры) вызвали в нашей памяти и такую сценку. Вокзал в крупном волжском городе. Зима. Все местные бомжи жмутся к бесплатному теплу и потому залы ожидания вокзала больше похожи не на гостиничные холлы, а на приёмники-распределители нищих и беспризорных. Мы с Александром Еремеевичем коротаем время в ожидании нашего поезда и перекусываем в вокзальном ресторане. Здесь публика, конечно, «поприличнее», чем в буфете, но, как оказалось, бомжовая стихия овладела и этой частью «общественного тепла». К тому же именно здесь пригрелся и своеобразный бизнес, основанный именно на знании психологии ресторанной публики. Когда официант, поставив перед нами графинчик (совсем маленький, граммов на двести, не больше), пару тарелочек с кусочками плохо очищенной от костей и кожи селедки и по тарелке вполне, однако, аппетитной «селяночки по-волжски», ушел за порционными отбивными, мы, не ожидая быстрого его возвращения, позволили себе – для дегустации и дезинфекции пищевода после выпитого по прибытии на вокзал чая в буфете - по рюмочке местной алкогольной продукции. Едва мы успели обменяться одобрительными междометиями в ее адрес, как от стойки к нам подошел застенчивый абориген и обратился с речью, в которой характерное «оканье» выдавало именно местного жителя: - Вы, простите великодушно, «морковского» ожидаете? Мы молчали, но так, что предположение незнакомца нами явно не отвергалось. И он продолжил: - Домой, значит, едете? Хорошо там у вас, в Моркве! Я там в армии служил, в Болшево… Вы не сердитесь на мою болтовню? Поймите меня правильно… Я, конечно, гад и подонок, но выпил нашей «Волжанки» на последние деньги не только потому, что она мне нравится, но и потому, что полезна она в мороз… А теперь надо идти домой, а там больная жена и лекарство купить уже не на что… Он был слегка пьян, грустен, жуликоват, вежлив и жалобен. Мы с Александром Еремеевичем молча достали бумажники, из них – по десятитысячной купюре и также молча отдали их горе-семьянину. Он взял их, поблагодарил, попросил кланяться Болшеву, и ушел. В это время показался официант с подносом, на котором дымились тарелки с отбивными. Он увидел отходившего незнакомца и, подойдя к нашему столику, спросил: - И по скольку он с вас слупил? По червонцу? Мы смущенно кивнули. - Ну, значит, этот «гастролер» про больную жену арию пропел… Под жену ему больше и не дают… Вот если бы он вас на детей стал брать, то после червонца так бы глянул в глаза, что засовестились бы вы своей скаредности и еще раз в кошельки бы полезли… А почему только на жену? – официант сам задал вопрос, который уже крутился у меня на языке. И сам же и ответил: - Да просто он уже «Волжанки» столько принял, что понимал – может и «не потянуть» арию про детей, сфальшивить, а тогда вы бы шум подняли. И правильно сделал, что быстренько смотался… Я бы позвал Колюню – он бы показал этому «семьянину»!.. Ну, дешево вы отделались, приятного вам аппетита… Мы приняли ещё по рюмочке «под горячее» и согласились в том, что в одном нас тут не обманули ни официант, ни «гастролер» – «Волжаночка» была отменного качества! Тема попрошайничества вызвала воспоминание о другом дорожном приключении. Его мы обсудили уже в вагоне-ресторане, под вполне приличную исландскую селедку в винном соусе, холодную – из холодильника! – окрошку и покрытый инеем графинчик «Смирновской особой». Дело было в начале ноября 91. Мы с Александром Еремеевичем работали в Берлингуере – помогали одному крупному заводу в реализации его отхода, очень неплохо горючей, но, одновременно, и очень сильно пахучей жидкости, запах которой, признаюсь, существенно отличался от аромата «Шанели №5». Брали его только для сельских котельных, вонь от которых при использовании такого топлива не сильно ухудшала «местную экологию», особенно если эта котельная располагалась (а так, как правило, и бывало) вблизи стоков свинарника или коровника. Закончив (вполне успешно!) очередной этап переговоров о закупке нами 300 тонн этого котельного топлива, мы возвращались в Моркву. Дело было числа 4 или 5 – вот-вот должны были начаться «октябрьские праздники». Тогда это не было пустыми словами – «красный день календаря» отмечался в нашем обществе практически всеми – серьёзно ли, иронично ли, но – всеми. Все началось с того, что на железнодорожной станции «Рукотворное море», до которой мы добрались от гостиницы в переполненном автобусе, билетов на поезд уже не было. На три дня вперед! Через полчаса мы чесали затылки на автовокзале – автобус на Моркву уходил в 10 утра и билетов на него тоже не было, надеяться можно было только на то, что водитель «сжалится» и за полцены предоставит скрюченно-сидячее место в проходе (стоять было категорически запрещено – линейный контроль мог оштрафовать водителя). Но надежда эта была слабая – даже и за деньги не всякий водитель проявлял жалость, да и перспектива почти сутки пребывать в скрюченно-сидячем положении совсем не радовала. Решили ехать в аэропорт. Улетим ли, нет ли – уверенности уже не было, но ночевать в аэропорту было все-таки лучше, чем на автовокзале, где дух стоял немногим лучше, чем в котельной после заливки нашего «фирменного горючего». Так все и оказалось – билетов на Моркву не было, но буфет и телевизор в зале ожидания работали. После подкрепления «аэрофлотовским кофе» с ванильными сырками (на котлеты мы даже и посмотреть не решились), Александр Еремеевич посадил меня на «полумягкую скамейку» напротив подвешенного на специальной штанге телевизора «Рубин», а сам отправился «на разведку». Его умение налаживать контакты с администраторами любого уровня было фантастическим. И я был уверен – он что-нибудь, да «провернет»! Не было его довольно долго – я успел посмотреть почти полную серию популярного тогда сериала о доблестных милицейских сыщиках, дотошных экспертах и благородном следователе, который искал (и находил!) искры человечности в душах самых отпетых мошенников. Замечу, что популярного актера, игравшего главного сыщика, я как-то незадолго до этого встретил в магазине на Петровке, когда он выходил из подсобки с полной сумкой продуктов, бывших тогда «дефицитом» в «предреволюционной» Моркве. Вслед ему донеслось: - Вы завтра вечерком ещё загляните – колбаску копченую получим и кофе растворимый! По экрану ещё плыли титры, сопровождаемые шлягером о том, что «если где-то кое-кто у нас порой честно жить не хочет», как в проходе показалась фигура Вольского. По энергичности, с которой он приближался ко мне, я понял, что не ошибся в своих надеждах на его умелость и удачливость. - Значит так, Георгий Евгеньевич,- начал он без предисловий. – Давайте деньги – я договорился с командиром борта Ташкент – Ленинбург, он берет нас «зайцами». А уж из Питера мы ночным поездом точно уедем! Как мы пробирались к стоявшему на взлетной полосе борту, как грузились на него, преодолевая глухое раздражение стюардесс, места которых в полете должны были занять, как бортинженер прятал нас за своей широкой спиной в узком пространстве перед пилотской кабиной Ту-134 при аэродромном контроле, как летели, приютившись на двух откидных стульчиках возле туалета, я описывать не буду. Скажу только, что на Морковском вокзале в Ленинбурге билетов на Моркву не было на неделю вперед. Проводники вагонов ночных экспрессов, следовавших на Моркву, просили тройную цену билета (а денег у нас после недельной командировки уже почти не было). Однако, быть у воды – и не напиться? Дудки! Чтобы ускорить дело, мы решили разделиться – Александр Еремеевич дежурил в кассовом зале (а вдруг кто решит сдать билет?), а я, в надежде на то, что удастся выловить отказников на дальних подступах к кассе, фланировал перед входом, спрашивая, как перед аншлагом в театре, «лишний билетик». Чтобы повысить эффективность своей «работы», я прикрепил булавкой к лацкану пальто бумагу, на которой было написано: «Нужно два билета до Морквы». И вот на эту-то бумажку я и получил множество откликов. В темноте (а время уже перевалило за полночь) многие не могли разобрать надписи и разглядеть внешности просителя, но, ориентируясь по ситуации (ходит человек и о чем-то просит), совали мне в руку то, что как казалось им, и должно составлять предмет моего вожделения - кто трешку, кто – пятерку, а кто - и червонец! Отказываться было глупо, да и не было времени на объяснения – сунет тебе бумажку в руку какая-нибудь солидная дама, и поспешно удаляется по направлению к нужной ей платформе. Не бежать же за ней с разъяснениями! Так я «отбил» почти половину уплаченного нами в самолете стюардессам дополнительного «бакшиша» за наши откидные стульчики. А закончилось все, как с удовольствием вспомнили мы с Александром Еремеевичем под стук колес вагона-ресторана, проплывающего мимо перрона станции «Кобяково-2», очень даже благополучно. Через час после начала нашей «вокзальной операции» в промозглом ноябрьском Ленинбурге 1991 года Вольский выскочил из дверей кассового зала с двумя билетами на последний в эту ночь морковский рейс. Правда, это были билеты в сидячий вагон почтово-багажного поезда, шедшего до Морквы 16 часов, но зато, как оказалось, были мы одни (!) в вагоне, оборудованном шикарными «самолетными» креслами! Вот и верь после этого объявлениям об аншлаге – в театре ли, в железнодорожной кассе ли… После обеда-ужина, пробудившего у нас такие яркие воспоминания, мы спокойно расположились отдохнуть на действительно мягких полках нашего купе. Я взял лежавшую на столике газету – вкладыш какой-то «морковской толстушки» - и внимание мое привлекло интервью с неким Александром Нагорным. Уже подремывая, я прочел: «Главную суть нашего государства я бы вывел так - «У нас самая удачливая страна!». - А вы не ошиблись? Обычно слышишь: «Вот все у нас есть, везения только не хватает» . - Нам стыдно жаловаться. Еще 12 веков назад мы были маленьким восточно-славянским племенем, затерянным в болотах бесконечно далеко от центров цивилизации. И казалось, шансов у этого народа уж точно никаких. А теперь посмотрите - предельно малым запасом сил и населения мы самые большие на глобусе. У нас поразительный потенциал. После Смутного времени на Руси было всего 4 миллиона человек населения. Но именно тогда мы взяли и дошли до Тихого океана! Потом двинулись на Европу и охватили собой почти всю ее Восточную часть. И всего этого мы достигли не кровопролитными войнами, а внутренним самоброжением. Это совершенно колоссальный феномен в мировой истории». Анализировать этот текст уже не было сил, но, вероятно по ассоциации с объявленным Нагорным величием нашего народа, последней историей, которая всплыла в памяти перед тем, как приятная дремота отключила меня от действительности, было воспоминание о том, как однажды мы с Александром Еремеевичем ехали из Дорогоклинтона в трехместном купе и ему (рост 1м 95 сантиметров при «нехилом» телосложении!) досталась вторая полка в этой душегубке! Воистину, это было зримой иллюстрацией к тезису о том, что «нашим людям» тесна европейская цивилизация! Но тогда мы настолько вымотались на погрузке шлама из отстойника, что Александр Еремеевич, сложившись чуть ли не втрое, облегченно выдохнул и заснул на все пять часов езды до Морквы… О прибытии в Магнитоград, поселении в его гостинице, поездке на магнитоградском трамвае, об опасностях работы магнитоградского кондуктора, первой встрече и беседе с госпожой Янгель, согласовании цены на магнитоградский фарт-ценк, моем вечернем чтении, а также о мнении простой Берлингуерки о недостаках продовольственного снабжения морквичей осенью 1991 года. Сосед мой, густо щи наперчив, Сказал, взяв стопку со стола: - Ты, друг, наивен и доверчив. Жизнь твоя будет тяжела. Магнитоград встретил нас неприветливо – почти осенняя хмурость, унылый вид кирпичных пятиэтажек, дымящие по горизонту трубы металлургического гиганта, подозрительно покосившееся «колесо обозрения» в парке и нелепый паровоз, стоящий в ста метрах от вокзала и символизирующий «стремительность технического прогресса» начала тридцатых годов прошлого века… В гостинице (ее расцвет пришелся, вероятно, на пятидесятые годы) с ее рассохшимся паркетом, который пружинил, как болотный мох, но скрипел, как несмазанный ворот деревенского колодца, «в наше распоряжение» был предоставлен обширный, но обшарпанный 201 номер. Он состоял из спальни с двумя скрипучими деревянными кроватями и облезлыми прикроватными тумбочками, напомнившими мне пионерское детство и шмоны дежурной пионервожатой по утрам в нашей «палате» – есть ли в ящике предписанные зубная щетка и зубной порошок и нет ли запретной рогатки? Кроме спальни мы, оказывается, оплатили право распоряжения в течение трех суток гостиной с провалившимися пружинами раскладного дивана, шатким столом, прожженным в нескольких местах сигаретными окурками ковром на полу, двумя колченогими «венскими» стульями, телевизором «Рекорд» с обломанными ручками и мотком проволоки вместо антенны и «Инструкцией по эвакуации в случае пожара», висевшей в рамочке на стене возле входной двери. Похожий телевизор стоял и в берлингуерской гостинице, но там он был один на этаж и вечерние новости я ходил слушать специально, ощущая это компонентом особой «культурной программы», почти равным походу в кинотеатр в Моркве. Его вид напомнил мне, как однажды, все той же памятной осенью 91, в программе «Время» передавали репортаж о пустых полках морковских магазинов. Зрителей было всего трое: я, дежурная по этажу и уборщица. И вот в полусонной тишине холла раздался голос уборщицы – пожилой, но еще вполне крепкой женщины, которая с нескрываемым удовлетворением и даже каким-то торжеством, сказала: - Вот, правильно, пусть эти морквичи узнают, как мы тут завсегда живем! Я искренно удивился: - Что ж тут правильного? Почему вас радует то, что кому-то где-то стало плохо? Почему вам хорошо от того, что такой же, как вы, «марьванне» в Моркве сегодня нужно отстоять два часа за батоном хлеба? Уборщица ничего мне не ответила и поднялась с дивана, ничуть не устыдившаяся своей реплики и только понукаемая дежурной по этажу, которая, чтобы сгладить неловкость передо мной, известным ей морквичем, отослала уборщицу в кладовку: - Нечего глупости болтать, Петровна, сходи-ка лучше да посмотри – вскипел ли чайник. Я его в кладовке поставила… В магнитоградских своих «хоромах» мы могли свободно посещать и «места общего пользования», правда, разделяя эту свободу с неизбежными аборигенами – рыжими тараканами, шуршавшими где-то под отклеивающимися пластами «моющихся обоев». Впрочем, подробное ознакомление с апартаментами откладывалось на вечер, поскольку нас уже ждали в Отделе сбыта на комбинате. До заводоуправления мы добирались на трамвае, линия которого, слегка попетляв по городским улицам, выходила «во чистое поле» и несколько километров тянулась мимо каких-то будок, чахлых тополей и лоскутков огородов до промзоны, где остановки соответствовали номерным проходным. Так они и назывались – «Первая», «Вторая», «Седьмая» и «Заводоуправление». Как добирались до третьей, четвертой, пятой и шестой, и были ли ещё проходные - осталось неясно. В трамвае работала кондуктор, деловая и энергичная женщина, которая, правда, не слишком утруждала себя профессиональной деятельностью. К нам она подошла и «обилетила», а вот к постоянным клиентам – работникам металлургического комбината – обращаться не решалась. Только однажды на наших глазах (и видимо, именно пытаясь показать нам свою непредвзятость, продемонстрировать нам, «столичным штучкам», что и в магнитоградской коммунальной службе исповедуется универсальный советский принцип «в сортирах и банях все равны») она попыталась получить плату за проезд с какого-то мужика с тяпкой, севшего где-то на «огородном» участке маршрута. Но афронт этой попытки оказался сокрушительным! Такого многоэтажного мата, такой изощренности в анализе сочетаний родственных и сексуальных связей между администрациями комбината, трамвайного парка и Президента Руссии, такой экспрессии от, казалось бы, тихого труженика полей и огородов, я совершенно не ожидал! Он тоже оказался работником комбината (в Магнитограде это трое из каждых четырех жителей) и ему также как и остальным пассажирам вот уже полгода как не платили зарплату. И его огородничество – это единственный реальный источник средств к существованию. А попытка приравнять его, коренного магнитоградца, к этим «недорезанным буржуям», у которых денег столько, что и на такси могли бы доехать (взгляд в нашу сторону) показалась ему не просто «несообразной», но даже оскорбительной. Получить пропуск в заводоуправление оказалось далеко не просто. Пришлось отстоять получасовую очередь к окошечку, где выдавали необходимые бумажки командированным «всех мастей», включая сюда и водителей разнообразных грузовиков, приехавших кто за металлоломом, кто за отходами столовой, а кто и за продукцией – катанкой или арматурой. А пропуск на проезд автомобиля – это документ с огромным числом разных граф, заполнение которых нужно ещё согласовать с барышней в окошечке… В кабинете заместителя начальника Отдела Сбыта, Тамары Николаевны Янгель, отвечавшей за разные неликвиды и отходы производства, начало разговора не предвещало ничего хорошего. Тамара Николаевна, деловая женщина «за сорок», с губами коньячного цвета, тщательно следящая за своей внешностью с тем, чтобы выглядеть на 35, сухо поздоровавшись с нами и всем своим видом показывая, что «разных просителей» ходит тут много, а «она одна», что её время драгоценно, сказала нам почти в «телеграфной манере»: - Вам, как я понимаю, нужен фарт-ценк. А мне – деньги за него. В кредит не дам – испаритесь через месяц, а потом вас через суды ищи два года. Найдем, конечно, но ведь через полгода инфляция съест все ваши долги и зачем вы будете мне нужны? Так что предоплата 100%, цена – 90% от чистого ценка (и благодарите меня – там ценка в сплаве 98%!). Согласны – подписываемся. Платите за месяц вперед, как получим деньги на счет - получайте свои пять вагонов в течение месяца (в порядке поступления порожняка) и благодарите меня. Нет – до свидания, счастливого пути, командировочные удостоверения вам отметят в конце коридора. Условия были абсолютно грабительские и потому неприемлемые, а тон Тамары Николаевны – не терпящим никаких возражений. Я слегка растерялся и не мог этого скрыть. Тамара Николаевна, нетерпеливо постукивая пальцами по столу, ждала нашей реакции. Тут Александр Еремеевич и проявил свои легендарные таланты. Он поддернул брюки, развернул могучие плечи, преобразился, и стал этаким «Карлссоном в самом расцвете сил», но шестьдесят четвертого размера. И сказал он в манере Тамары Николаевны, столь же решительно и уверенно: - Значит так! Мы приехали сюда не просто говорить, но договариваться. И то, что вы сказали, Тамара Николаевна, очень правильно. Но в ваши 35 ещё некуда спешить! Теперь будем начинать работу. Сегодня мы пойдем в ваш Техотдел, а завтра с утра снова вернемся к вам. И когда мы подпишемся, поработаем месяцок-другой, вы поймете, что искать нас через суды не нужно – «подружимся семьями». А уж кто, кого, как и за что благодарить будет – разберемся без суеты. Это уж будет дело семейное. Тамара Николаевна улыбнулась – лед был сломан! Она поднялась с места, показывая, что аудиенция окончена, и сказала: - Вы проницательны, Александр Еремеевич… Правда, я своего возраста и не скрываю. Но Гайдар полком командовал уже в 16… Попробуйте поговорить в Техотделе, я не против. Если они в чем-то меня поправят – буду благодарна… В Техотделе было значительно спокойнее, здесь не проявлялось то неизбежное нервное напряжение, которое характерно для отделов снабжения и бухгалтерий, где каждое «лишнее слово» грозило немедленными расходами, или отделов сбыта, где всегда боятся продешевить, и потому в Техотделе разговор идет неспешный и вдумчивый. Я сидел напротив «аккуратного мужчины» лет пятидесяти, по виду которого совершенно нельзя было определить ни его характера, ни склонностей. Очень «закрытой» была внешность Рашида Фархутдиновича Нурлиева, начальника Техотдела. Я спокойно и терпеливо объяснял: - Ведь вы же понимаете, что удалить 2% примесей из фарт-ценка тебует почти стольких же усилий, сколько нужно затратить для удаления четверти по весу кислорода из оксида. И цена этому фарту не может быть больше четверти цены чистого ценка. Фарт нам нужен для специальных целей, без мозгов с ним вообще нечего делать - по прописи там раньше стоял чистый металл, но наши технологи нашли нужные режимы… Чистить мы его не будем, конечно, но если не договоримся о существенной скидке, то нам лучше покупать чистый ценк – возни с ним гораздо меньше… А у вас, если договоримся, не будет головной боли – где хранить эти сотни тонн неликвида да каким халтурщикам его сбывать по чушке в месяц… Мужчина все давно понял (он и без меня все это знал), но слушал не перебивая, дожидаясь «ключевых слов». И я сказал ему их: - И дайте нам возможность, Рашид Фархутдинович, показать, как мы умеем быть благодарными… Он кивнул, посмотрел на меня внимательно, но так, что я не понял – принял ли он «правила игры»? Однако ответил он чётко: - Вообще-то мы готовимся к пуску нового производства – ценкового порошка из фарта. Но это дело ещё долгое – только начали монтаж технологической цепочки. Хорошо, давайте ваше письмо. Я подпишу согласование цены на этот квартал. А там посмотрим… Я достал из кейса бумагу, и пока он читал ее и подписывал, сказал: - Вот приеду на отгрузку первого вагона – и сразу к вам. Надеюсь, что чаем напоите с дороги… А потом и возиться с новой капризной технологией порошка раздумаете… Рашид Фархутдинович и на это никак не отреагировал. Вечером, сидя на креслах пенсионного возраста и радуясь тому, что мы в тепле и сухости (на улице лил дождь и снопы искр из-под пантографов трамваев освещали щербатый асфальт), мы обсуждали итоги дня. В целом он был вполне удачным и Александр Еремеевич был уверен, что после моего сегодняшнего успеха в Техотделе, завтра он «дожмет» Тамару Николаевну. И хотя коробка шикарных конфет, под целлофаном которой лежал хорошо видимый конверт, была уже у него в кейсе, мне все-таки до конца не верилось в успех и хотелось сказать Александру Еремеевичу – «ты, друг, наивен и доверчив» и Тамара Николаевна ещё «даст нам прикурить», а Рашид – совсем «тёмная лошадка». Но я промолчал. Перед тем, как лечь спать, я пролистал купленную в гостиничном киоске книгу Джеймса Вилларда Шульца «С индейцами в Скалистых горах». Я никогда раньше ничего не слышал об этом авторе, прожившим столь долгую жизнь (родился ещё в позапрошлом веке, в 1859 г., а умер в 1947г.), но он был единственным более-менее «серьезным» автором в ассортименте этого киоска. В предисловии было сказано: «Это правдивые рассказы о замечательном народе, некогда населявшем Новый Свет и ныне почти истребленном капиталистической "цивилизацией"». А я пока ещё выполнял данное себе же обещание прочитывать перед сном хотя бы пару «серьезных» строк. И сегодня я заснул, прочтя только один абзац из его воспоминаний, уж не знаю, насколько серьезный: «Сухожилия, проходившие вдоль позвоночного столба убитого нами медведя, имели в длину около полуметра, но этого было вполне достаточно, чтобы сделать из них две тетивы…». О завтраке в магнитоградской гостинице, освоении нами городского таксопарка, встрече и знакомстве с Савелием Ильичом, второй встрече с госпожой Янгель и славной победе над ней Александра Еремеевича, о вечерних терзаниях Савелия Ильича в местном ресторане, а также о нашем отчете по результатам этой командировки и получении заданий на новые трудовые свершения. Хоть ты не косуля, хоть я не олень, Не смогут охотничью страсть превозмочь Белый охотник, по имени день, Черный охотник, по имени ночь. С утра мы хорошенько выспались, а потом посмаковали кофе, заваренный в кипятке, который всего за пять рублей вскипятила для нас дежурная по этажу со странным именем Савва Панкратьевна. Это обычно мужское имя очень подходило к ней – была она именно такой, как предписано ономастикой: «Имя Савва - теплое, мягкое, и его обладатель тоже щедр на душевное тепло, которое он дарит и родным, и друзьям, и просто незнакомым людям, нуждающимся в этом тепле». В своем 203 номере мы ещё и всласть покурили, нарушив «Предписание для проживающих», висевшее в рамке на стене у входа. (Александру Еремеевичу вовсе не мешал запах моего трубочного дыма – сам он в командировках курил сигареты с патриотическим названием «Президент»). Так что на завод мы поехали, памятуя вчерашний намек трамвайного пассажира, именно на такси. И это было мудрым решением – посередине пути мы обогнали вереницу трамваев, стоящих посреди поля – из-за сложных отношений с оплатой за электроэнергию энергетики отключили питание трамвайной линии. Исходя из гуманитарных соображений мы тормознули и прихватили с собой какого-то веселого толстяка. Он представился – Савелий Ильич. Толстяк оказался опытным командированным – трещал он без умолку, но ничего о цели приезда не сообщил. Зато от него мы узнали и о степени скрипучести паркета в его номере, и о количестве его сожителей-тараканов, и о том, что колесо обозрения в местном парке скоро рухнет и даже некоторые подробности борьбы друг с другом тех местных «мафиози», кто претендует на утилизацию неизбежно образующейся после катастрофы кучи металлолома. Высадили мы его возле бюро пропусков, а сами пошли к Тамаре Николаевне. По предварительной договоренности в кабинет прошел только Александр Еремеевич. Я остался болтать с секретаршей (шоколадка «привет из Морквы», разговор на культурные темы и совместная оборона от пытающихся проникнуть без очереди к Тамаре Николаевне посетителей, а таких желающих всегда находится достаточно). Александру Еремеевичу хватило семи минут (как он сказал потом сам, для дела хватило бы и трех, но он, как столичный джентльмен, должен был посвятить достаточно времени тонким комплиментам в адрес хозяйки кабинета). Выйдя из двери с подписанным текстом договора и с явно написанным на его открытом лице торжеством от удовлетворения кипевшей еще со вчерашнего дня «охотничей страсти», Вольский обратился к секретарше: - Голубушка, зарегистрируйте, пожалуйста, и поставьте печать. И, обернувшись ко всем сидевшим в приемной, сообщил: - Тамара Николаевна просила минут десять не беспокоить ее. В гостиничном номере он рассказал, что Тамара Николаевна была в новом сногсшибательном деловом костюме (жакет в стиле «Шанель» в зелено-бордовую клетку), губы накрасила в томный лиловый цвет, вела себя гораздо теплее, чем вчера, и вообще «косила под возраст «едва за тридцать»». Поздоровавшись (она первой с улыбкой протянула ему руку) сразу же поинтересовалась: - Ну, что там наши технари вам растолковали? И проницательно, но и кокетливо добавила: - Или это вы их «распропагандировали» в свою веру? Вам ведь палец в рот не клади… Александр Еремеевич раскрыл кейс и достал подписанное мною вчера согласование цены. Тамара Николаевна, увидев в кейсе коробку конфет с конвертом и резолюцию Рашида Фархутдиновича, ни о чем больше не спросила. Конфеты Александр Еремеевич передавал в обмен на подписанный договор молча, улыбаясь и прижимая руку к сердцу. (В таких случаях никогда нет уверенности, что кабинет не прослушивается). А, передав, сказал только, что будет рад доставлять себе удовольствие возможностью личных встреч, подобных сегодняшним, как можно чаще, и уж при каждой отгрузке вагона обязательно. Приглашал посетить и наш офис для более тесного общения и знакомства с нашим руководством. Вечером, в гостиничном ресторане, где мы с Александром Еремеевичем устроили себе небольшой праздничный ужин, мы встретились с Савелием Ильичом, весьма удрученным и нерасположенным к разглагольствованиям. На традиционный вопрос «Как дела?», он мрачно отшутился: - Бог не выдаст – свинья не съест! И добавил загадочно: - А эту лахудру в английском костюме я бы только кастеляншей на гостевой этаж и взял бы… Но была бы из нее хорошая кастелянша… Он не составил нам компании, сел за дальний столик, и, как мне показалось, был глубоко погружен в воспоминания о прошедшем дне. И воздавал должное продукции местного ликеро-водочного завода с истовостью дисциплинированного больного, принимающего микстуру по прописанному рецепту. … Когда по возвращении в Моркву Александр Еремеевич докладывал на совещании о результатах нашей командировки, он не забыл подчеркнуть мой успех в Техотделе, а я – рассказать о той твердости и решительности, которые он проявил во время первой встречи с Тамарой Николаевной. Ефим Семенович был очень доволен нашей поездкой и этот наш обмен любезностями прокомментировал так: - Неважно, что кукушка хвалит петуха, а важно, что они вместе, кажется, снесли для фирмы желанное яичко… Ну, а теперь нужно засучить рукава, чтобы оно не простыло. А потому Саша Вольский на телефон – и в Домопапово. Там есть завод с горячим ценкованием на вагончик фарта в месяц. А вы, Георгий Евгеньевич – туда же, в Домопапово, только не на завод, а в аэропорт и – в Челядьевск. Надо достраивать схему. Почему он решил разделить нашу пару именно так – не знаю. Думаю, что успех Александра Еремеевича позволял надеяться на возможность получения быстрых денег на простой перепродаже фарта без его переработки, а потому объемы закупки сырья нужно было увеличивать в первую очередь. И здесь напор Вольского был неоценим. «Нужно устроить «мельницу» из представителей продавцов фарта и смолоть муку для наших пирожков»,- бросил как-то походя Ефим Семенович. И вот теперь он эту мельницу и устраивает руками Александра Еремеевича… А «достройка схемы» - процесс более рискованный и долгий. Да и требовал предварительной «технической подготовки», прежде, чем бросать в бой такой таран, как Александр Еремеевич. Вот я и должен был рискнуть и подготовить, в случае возникновения «затруднений», визит в Челядьевск главной ударной силы – Вольского. О начале моей командировки в Челядьевск, морковских мошенниках, встрече с Савелием Ильичом в аэропорту Челядьевска, раскладе времени первого дня моего гостевания в «золотой клетке» Сан Саныча, а также о некоторых характерных приемах соблазна, применяемых коварным Лукавым. Я живу, ещё не зная, Что дорога нелегка. И полынь в начале мая Не особенно горька Аэропорт «Домопапово» в последнее время стал лучшим аэропортом Морквы. После реконструкции он приобрел и вид и инфраструктуру вполне респектабельного европейского аэропорта. Конечно, до таких шедевров, как Сингапурский или Куала-Лумпурский ему ещё далеко (как, впрочем, и многим итальянским, порт-у-галльским и даже французским). Но свет, тепло, объем закрытого пространства, техника прохождения регистрации, условия для краткого отдыха – все вполне «на уровне». Вот только «кондишн»… С этим везде напряженка. Не любят системы кондиционирования табачного дыма – что-то там у них с воздушными фильтрами происходит. Вот и гоняют нашего брата, любителя «посмолить», по каким-то закуткам специальных курилок, а кое-где и вовсе выгоняют на улицу! Помню, как приходилось мучиться на риновой эйлатской жаре, таская к тому же за собой весь свой багаж – оставить без присмотра вещи в Израиле нельзя – их «арестуют» бдительные барышни из службы охраны через две минуты, после того, как вы отошли. И вернут далеко не всегда (тут не мелкое воровство, а «бзик официальных евруев» по поводу безопасности). То же теперь и в «Домопапове». Курить – или в какой-то камере без окон, или – «на свежем воздухе». Но, в отличие от Эйлата, в районе «Домопапова» воздух и вправду, как правило, свежий. Вещей у меня было немного – кейс и небольшая дорожная сумка. Я решил выйти покурить на улицу «ещё не зная, что дорога не легка». Предстоявшая командировка представлялась достаточно рядовой по сути, но очень важной именно сейчас, после того, как мы с Александром Еремеевичем столь удачно съездили в Магнитоград. На том памятном совещании у шефа я согласился с Беллой Борисовной, что Челядьевск – перспективный объект. Завод тамошний лакокрасочный – известная марка, так что сбытовая сеть должна быть налаженной. А, кроме того, там же, в Челядьевске, находится и один из крупнейших производителей чистого ценка. Может, и там кое-какие отходы найдутся? На совещании я получил «отложенное задание» на командировку – в случае, если нам удастся хорошо поговорить «Кое-с-Кем» в Магнитограде, мне следовало ехать знакомиться и налаживать контакты с Александром Александровичем Сидоровым, хозяином и Генеральным директором Челядьевской фирмы «Полуоксид». Условие «отложенности командировки» - успех в Магнитограде – было преодолено на прошлой неделе. После этого успеха время побежало значительно быстрее, и Ефим Семенович уже не напрягал нас обязанностью ездить на поезде. Так я в очередной раз оказался в «Домопапово» и теперь размышлял, стоя под козырьком и покуривая трубочку, именно над теми мотивами, которые могли быть близки менталитету Сидорова. А, попросту говоря, думал, чем, кроме пресловутого кэша я мог бы склонить Александра Александровича к действительно сознательному сотрудничеству. И некоторые соображения на этот счет у меня были… В этот момент ко мне подошел вполне приличного вида человек, похожий именно на «нашего брата командированного» и вежливо спросил: - Извините, пожалуйста… Вы – морквич? Разговаривать с незнакомцами я вообще не люблю, а в аэропортах – сугубо, но подошедший имел настолько респектабельный вид и говорил так уважительно, что я нарушил это свое табу и честно признался: - Да, я морквич. А в чем дело? Дело оказалось простым и понятным. Мой собеседник летел с пересадкой в Моркве из Казани в Сталинград, имел три с половиной часа времени и хотел купить «морковские сувениры» для друзей и сослуживцев, но на аэропортовские цены его командировочных уже не хватало. И он просил меня посоветовать – куда бы ему съездить и отовариться подешевле? Я начал было ему объяснять проезд к Царицынскому рынку, как в это время между нами стремглав промчался какой-то мужичок-кавказец и скрылся в дверях аэропорта. В момент его «проскальзывания» из его кармана выпал небольшой полиэтиленовый пакет. Мой собеседник посмотрел вслед убежавшему пассажиру, нагнулся и поднял валявшийся под ногами сверток. Что там находилось – непонятно, пакет был непрозрачным. Но ситуация мне не понравилась и я хотел было уйти, но мой собеседник как-то заговорщицки улыбнулся и сказал: - Посмотрим? И вот тут – каюсь! – любопытство возобладало над разумом, и я кивнул. Мы отошли на несколько шагов в сторону, и незнакомец развернул пакет. Там оказалась солидная пачка азиатов в крупных купюрах. Мне ли не знать этот блеск металлической ленточки в солнечный день, делающий купюру азиата похожей на театральный билет, у которого именно на отделенном ленточкой конце написано слово «Контроль»! Представив, чем все может закончиться (кавказцы, разборка, скандал), я уже взялся за ручку стоявшей под ногами дорожной сумки, чтобы как можно скорее уйти, но задержался на роковое мгновение, отвечая отказом на предложение «моего собеседника» поделить находку. Отойти я не успел. Из дверей аэропорта выскочил все тот же мужичок с короткими усиками и бросился прямо к нам. - Мужики! – закричал он нам, - вы не видели здесь пакета? И продолжил уже спокойнее, но явно удрученно: - Выронил, понимаете, где-то здесь, а там деньги на покупку машины. Я за ней в Берлингуер лечу… Так не видели?.. Мы переглянулись с моим собеседником. Психологически он должен был отвечать первым – ведь пакет с деньгами лежал у него во внутреннем кармане пиджака. Он и ответил, каким-то образом прочувствовав, что я опровергать его не стану: - Нет, не видели… Но ответил не совсем уверенно, и кавказец мгновенно это ощутил: - Ну, мужики, давайте по честному! Деньги там большие – две с половиной штуки «косых». Я на них «Жигубиси» хотел купить… И горбатился я за них два года... Туза одного морковского туда-сюда подбрасывал… Говоря все это, усатый внимательно смотрел мне в глаза. И, видимо, разглядел в них правду – врать я умею плохо. И тогда, совсем уж решительно, он заявил: - Значит так. Вы показываете мне ваши бумажники, я их на ваших глазах проверяю, и, если там нет моих азиатов, побегу заявлять о пропаже в милицию… Хотя лучше бы в фонд помощи ветеранам МОСКВА – оттуда хоть на мыло для веревки, на которой потом вешаться буду, дадут… И, не предполагая возражений и сразу перейдя на «ты» и командный тон, обратился ко мне: - Показывай бумажник! Я покорно полез в карман и отдал ему свой бумажник, в котором лежали все мои деньги. Кавказец открыл его, быстро «пролистал» содержимое, никаких азиатов не обнаружил (конверт для Александра Александровича лежал у меня в дорожной сумке), и вернул бумажник мне. Я сунул его в карман и ждал, чем закончится разговор двух незнакомцев. Кавказец молча протянул руку, а мой собеседник вдруг заартачился: - Не буду я ничего показывать! Это я в милиции объяснения давать должен, а ты кто такой? Кавказец вскипел: - Это я «кто такой»?!.. Ах, вот вы как! Все ясно! Вы в сговоре и деньги у вас! Я сейчас не милицию – своих ребят приведу. Тогда и поговорим – кто здесь какой! И столь же быстро, как и в первый раз, исчез, помчавшись за «подмогой». Мой визави тоже довольно споро двинулся в противоположную сторону. Я, подхватив дорожную сумку с конвертом, в котором лежали десять новеньких банкнот с видом Великой китайской стены, о происхождении и предназначении которых у меня не было желания объясняться с кем бы то ни было, с наивозможной поспешностью побежал к регистрационной стойке. Как в плохих детективах я крутил при этом головой, опасаясь увидеть устремляющуюся ко мне группу кавказцев во главе с давешним ротозеем. К счастью, регистрация прошла быстро и вот я – на борту самолета. В иллюминаторе – последние отблески полуденной радуги. Солнце из голубого превращается в зеленое и изумрудные тени плывут по салону самолета. «Сюда уже не прибегут!»,- ликующе пела во мне какая-то струна. Кофе с рюмочкой заказанного мною коньяка на высоте 10000 метров над головами и маленького «усатого кавказца», и «вежливого собеседника» я пил с огромным удовольствием, несказанно, правда, мучаясь при этом от того, что нельзя добавить к нему затяжку моей трубочки. И наложение игры света «полуденной радуги» на вид плоской, как доска, но с рассыпающейся копной рыжих волос бортпроводницы, следившей, чтобы никто не нарушил дурацкого и, я бы даже сказал, садистского аэрофлотовского запрета на курение, вызвал в памяти строчки Леонида Мартынова: Когда В лесу уже темно, Бывает дерево одно Зеленопламенным закатом Оранжево озарено. Кофе в самолетах, как известно, бесплатный. А вот за коньяк следовало уплатить. И когда «доска» подошла ко мне, забрала коньячную рюмку и молча стояла, ожидая оплаты, я полез в бумажник, стал искать подходящую купюру, и тут мне показалось, что… Я пересчитал наличность и понял, что ничего мне не «показалось» - ровно половины денег там не было!.. Этот ловкий кавказец «обчистил» меня прямо на моих глазах, не только не скрывая своих рук, но даже демонстративно манипулируя тренированными на таких «пролистываниях» пальцами буквально у меня «под носом». Только теперь до меня дошел истинный смысл утреннего происшествия – оба моих новых знакомых являлись жуликами, или, точнее, мошенниками и составляли, как выражаются юристы, «организованную преступную группу». Один «завлекает» лоха, а другой его «стрижет». И в роли такого вот барана для стрижки сегодня выступил я. Остатки утреннего страха в душе быстро сменились досадой и обидой на самого себя. Так глупо дать себя обмануть! Но – поделом! Почему я сразу не ушел, а остался «посмотреть»? Была, значит, и неясная, но достаточно сильная надежда на «не только посмотреть», но и на «немножко поделить». А, значит, поделом! Эта сцена вызвала из моей памяти многочисленные наши с Ефимом Семеновичем беседы на «нравственно-космогонические» темы. Случались такие беседы в разной обстановке и в разных местах – во время «укороченной обеденной церемонии», когда большинство наших «волчар» грызли кости, подбрасываемые нам Судьбой где-то на Руссийских просторах, и мы с ним спускались в кафе вдвоем, во время совместных командировок нудными гостиничными вечерами, на отдыхе где-нибудь на греческих или итальянских пляжах, в машине, мчавшей нас на деловую встречу… Основным его тезисом, в котором Ефим Семенович был твердо убежден, являлось утверждение, что в мире изначально присутствуют Он и Лукавый и мы – поле борьбы этих космогонических начал. Иногда по его глазам я видел, что присутствие Лукавого над плечом он ощущает почти физиологически… К функции Лукавого относились все виды Соблазна, направленного на отлучение нас от Него. Лукавый, в понимании Ефима Семеновича, был бесконечно изобретательным и бесконечно активным. В качестве инструментов Соблазна он использует огромный арсенал, основанный на открытых еще в библейские времена свойственных нам пороках – классической жажде денег, удовольствии от чревоугодия и прелюбодеяния, непомерной гордыни и даже стремлении к познанию. Именно Лукавый подталкивает нас к созданию ситуаций, в которых достижение грешных целей кажется легким и безнаказанным и мы строим разные авантюрные бизнес-планы, ходим в роскошные рестораны, заводим себе любовниц, выдвигаем амбициозные теории или растворяемся во всемирной паутине Интернета. (Почему-то именно Интернет кажется ему особенно опасным соблазном от Лукавого). Только человек соберется остановиться и подумать о смысле и цели своего Бытия, «как Лукавый тут как тут – мыслишку подбрасывает «умненькую», девочку подводит «красивенькую» или просто усаживает за компьютер». Я не мог согласиться с такой трактовкой, поскольку считал, что каждый из нас сначала создает, а потом и носит в своей душе и своего Бога, и своего Лукавого. И, по большому счету, отвечать за шкоды и пакости этого внутреннего соблазнителя должен каждый сам. Ссылка на то, что его кто-то «попутал» - это тоже Соблазн, соблазн ухода от ответственности. А сегодня «мой Лукавый» действительно добился своего – получив от него предложение «посмотреть», я, именно я, соблазнился возможностью «поделить» и «хапнуть на халяву». Но такого рода признания и нелицеприятный анализ нисколько не изменял того факта, что денег у меня теперь оставалось едва-едва на обратный билет. А как же прожить несколько дней в Челядьевске? Ладно, давайте решать вопросы по мере их поступления, решил я. Сначала встреча с Сидоровым, а уж потом будем думать о ночлеге… В аэропорту Челядьевска меня уже ждала высланная от «Полуоксида» представительская модель «Сидроен» с хмурым водителем и веселым толстяком сопровождающим. (Как выяснилось впоследствии, эту машину подарили Сидорову французские компаньоны за «корректность в бизнесе» и выбрали именно эту модель, руководствуясь созвучием французского слова с его фамилией). Знакомиться нам с присланным за мной встречающим было не нужно. Я хорошо помнил его колоритное имя: Савелий Ильич. Он тоже, вероятно, узнал меня – я это определил по его чуть испуганному взгляду. Но он почему-то решил «не вспоминать» нашей встречи в Магнитограде. Я поддержал его игру. - Савелий Ильич,- представился он, - а вы – Георгий Евгеньевич? Я молча кивнул. Савелий Ильич сразу «взял быка за рога» и, пока водитель устраивал мои вещи в багажнике, у нас состоялся такой диалог: - Сан Саныч велел встретить вас в соответствии с нашими традициями. А это значит – никаких гостиниц. Едем сразу к нам и выбирайте себе апартаменты по душе – все четыре номера нашего «гостевого этажа» сейчас свободны. Сауна уже горячая – хорошо попариться с дорожки! А к обеду (он сегодня поздний – в 5 часов) подъедет и сам Сан Саныч. Вы в биллиард играете? Там и поговорите. Это неожиданное предложение решало мои проблемы, которые я сам себе устроил в «Домопапове». Хотя я и не люблю такого «плотного» гостеприимства, но на этот раз отказываться не стал и, поблагодарив, принял его, тем не менее, как должное. Толстяк, однако, ещё не закончил изложения приготовленной мне программы: - После работы, часов в 8 – ужин. А потом – массаж и отдых. Вы каких массажисток предпочитаете – наших или экзотику: негритяночек, китаяночек?.. Ну и денек! С утра – грабеж в аэропорту, вечером – бардак в гостинице!.. Нет, хватит с меня! - Спасибо, Савелий Ильич, но массажному искусству я предпочитаю технику медитации. А она предполагает уединение. Так что пусть Сан Саныч не беспокоится – после ужина я предпочту объятия Морфея. Толстячок ухмыльнулся: - Как знаете! У нас не предлагают дважды, но и не просят повторить – все понимают сразу и с первого слова. - Спасибо, учту это в ходе переговоров с Сан Санычем,- ответил я и машина тронулась с места… Перед въездными воротами на территорию «Полуоксида» стояли два крепких охранника и скучающе просматривали узкую улочку, по которой мы и подъехали. Именно эта «ленивость» и «равнодушие» и свидетельствовали об их профессионализме. Они, разумеется, не стали досматривать нашу машину – «своих» здесь хорошо знают «в лицо». Только вежливо поздоровались с Савелием Ильичом и быстренько открыли шлагбаум. Мы подъехали к желтому двухэтажному особняку, на углах которого были установлены мощные камеры наружного видеонаблюдения. На окнах – витееватые кованные решетки. Около небольшой лужицы сражались за кусочек хлебной корочки два разноцветных воробья – они принимали «боевые стойки», раскрывали свои столь яркие и богатые по рисунку и окраске крылышки, что казалось – идет «брачный танец». Но это была борьба не за наслаждение соитием, а буквально за кусок хлеба. «Золотая клетка»,- почему-то подумалось мне, и я вышел из машины. О, может быть, первой личной встрече с Сан Санычем, результатах первого торга, позднем обеде, игре в биллиард, втором торге и его результатах, увековечении памяти Ж.-П.Сартра в Париже, особенностях руссийского «патентного бизнеса» и его восприятии Ефимом Семеновичем, о новых гадствах Лукавого и, возможно, моей измене корпоративной этике нашей фирмы, а также о некоторой странности поведения Савелия Ильича. Родина слышит, Родина знает, Как нелегко Ее сын побеждает, Но не сдается Правый и смелый. Сколько бы черная буря Ни злилась, Что б ни случилось, Будь непреклонным, товарищ! До обеда я читал пакет документов, которые мне передал Ефим Семенович месяца три тому назад «для изучения». Об этих документах он явно забыл. Есть такая категория бумаг – «с глаз долой – из сердца вон». Они касались патентного законодательства, а попали к нам после визита одной старой знакомой и Ефима Семеновича и Самуила Лазаревича еще по работе в ЦИАПе. И вот тут-то, в мягком и покойном кресле, после кошмара отлета и болезненного самокопания в самолете, на меня нашла легкая дрема. Мне показалось, что в комнату кто-то вошел. Ощущение подтвердилось, когда вошедший у меня за спиной вежливо кашлянул. Я обернулся. Передо мной стоял сам Сан Саныч. Узнал я его потому, что когда готовился к командировке, то просмотрел в Интернете сайт «Полуоксида». Да и кто в этой золотой клетке мог вот так «запросто» войти ко мне в номер, кроме самого хозяина? С первого взгляда Сан Саныч напоминал известного в свое время киноактера Юрия Пузырева – круглолицый, мягкий, интеллигентный. Он был в белой рубашке с короткими рукавами и ладно сидящих серых брюках. Весь его вид свидетельствовал, что перед вами человек умственного труда, но не высокого полета. Какой-нибудь бухгалтер или преподаватель техникума. И только где-то в глубине его внимательных глаз можно было обнаружить блеск холодной стали. - Не потревожил? – спросил Сан Саныч. – Приветствую вас, дорогой! Я вот вернулся немножко пораньше и решил сразу зайти к вам – вы ведь ради этой встречи и приехали ко мне, так что оттягивать ее было бы с моей стороны невежливо... Отдохнули с дороги? - Спасибо, Александр Александрович, вполне отдохнул… - Можете не напрягать голосовые связки – меня все зовут просто Сан Саныч… Он улыбнулся и добавил: - От уборщицы до губернатора… Позвольте? – он кивнул на кресло. - Конечно, присаживайтесь, Сан Саныч! Он сел в кресло напротив и заговорил в той же манере «мягкой домашности», но почти сразу перешел к главной сути переговоров: - А я вас именно таким и представлял – у Савелия Ильича отличная память и хороший слог. Он описал вас мне и я теперь вижу, насколько точно. Вы ведь встречались с ним в Магнитограде и перехватили у него контракт на поставку фарта буквально в последний момент. Последнюю фразу он произнес без тени вопросительной интонации, просто констатируя реальный факт. Я понял, что внешняя мягкость Сан Саныча прекрасно сочетается у него с внутренней упругостью и деловой прямотой. Разговор сразу вошел в фазу борьбы и следовало реагировать на выпад: - Ну, Сан Саныч, бизнес – это та же охота. Кто первый выстрелил – тот и уносит зайца. Если, конечно, не промахнется! Сан Саныч снова улыбнулся и сказал: - Или как сбор грибов: пораньше встал – полней лукошко! Да я не в обиде на вас, Ильич ведь «не успел» не потому, что плохо бегает, а потому, что в этот раз фортуна играла на вашей стороне… Да и, честно говоря, не мог Ильич вас победить – нет у меня сегодня лишних денег. Мне фарт нужен был в Магнитограде в кредит. А вы – деньги им живые обещали. Он помолчал, и, считая вступление законченным, прямо спросил: - Так сколько вы хотите? Только давайте не будем загонять друг друга в угол – это не бильярд. Фарт и угар большой имеет, и печь на этом загублю, ни под что другое она уже годиться не будет. Так что сорок – вам, а то, что останется – мне! Торг начался. Теперь – не зевай! - Какой бильярд, Сан Саныч! Я и кий-то последний раз в кино видел… Но, ведь, кроме угара, еще и кислород учесть нужно! Я когда-то учил студентов, что у кислорода атомная масса 16 дальтон – а она у нас чья будет? - Шестнадцать, говорите? Ну, вам виднее – вы доцент… Пополам будет восемь. Итого – вам сорок восемь. - Не мелочитесь, Сан Саныч! Смотрите ширше, и народ к вам потянется! - Хорошо, Георгий Евгеньевич, уговорили – разойдемся поровну: пятьдесят на пятьдесят! - Согласен, Сан Саныч! А по поводу Савелия Ильича я вам скажу, как формулируется первое правило бизнеса в оригинале. Я его запомнил, когда изучал «Курс молодого бизнесмена для воспитанников детских садов и приютов»: «Кто первый встал – того и тапки!». Мы поднялись друг другу навстречу и, улыбаясь, «ударили по рукам» - договор был заключен. Подписание бумаги было теперь вопросом формальным. В этот момент Лукавый, которого я носил в себе, зашептал на ухо: «Фарт – сырье – патент! Воспользуйся случаем и будь богатым!». Я прекрасно понял подсказку – именно сейчас можно было начать «свою игру» и поговорить с Сан Санычем о патентовании нового способа производства ценковых белил из фарта. Но слишком хорошо я ещё помнил, чем закончилась сегодняшняя утренняя история, в которую я влез именно по подсказке своего Лукавого! И, отложив документы, которые просматривал перед появлением Сан Саныча в сторону, я избежал «портновского искуса». (Помните, как один бедный портной мечтал: «Вот был бы я царем – жил бы лучше, чем по-царски: я мог бы править и немножко шить…»?). Уходя, Сан Саныч сказал: - Обед через пятнадцать минут. У нас, конечно, не парижский «Максим», но голодным не уйдете!.. … Я открыл глаза. Никого в комнате не было. Часы показывали без четверти пять. Обед был изысканным и обильным. Обслуживала одна официантка, своим видом и манерами напомнившая мне аэроэскадровскую кассиршу Клавдию Свиридовну – респектабельно, коммуникабельно, быстро и внимательно. Чистая или отставленная тарелка тут же заменялась на полную порцию нового блюда. Прямо к столу приехал с совещания у губернатора и Сан Саныч. За столом нас было трое – Сан Саныч, Савелий Ильич и я. Обедали в подвальном помещении, где расположился «разгрузочный комплекс» Сан Саныча – бар, банкетный зал, биллиардная и сауна с тренажерным залом. Порядок за столом был вполне демократическим – пить никто не принуждал, но и не препятствовал – на столе стояли и водка, и вино, и сок. Выпили по рюмке водки – за знакомство. Разговор шел совершенно пустой – о местной рыбалке, о погоде, о заграничном отдыхе. Я прекрасно видел, что Савелий Ильич очень боится, что я его узнаю. И понятно почему. Наша встреча в Магнитограде была отнюдь не случайной, были мы там по одним и тем же делам – добывали фарт-ценк. Но он достался нам благодаря тому, что мы оказались в кабинете Тамары Николаевны на сутки раньше Савелия Ильича и Александр Еремеевич этой форы не упустил. Как оправдывался за свою неудачу Савелий перед Сан Санычем, какие «обстоятельства» в его изложении имели место, я не знал, да и не хотел знать. Но явно Савелий Ильич опасался, что совместный анализ этих обстоятельств вряд ли будет для него полезен. После обеда Савелий Ильич извинился – дела у него оказались ещё в кабинете - и ушел на первый, административный этаж, а мы с Сан Санычем отправились в биллиардную. Первый удар по треугольнику из костяных шаров как «почетный гость» сделал я. Треугольник дрогнул, от него откололся один угол, но в целом удар был неудачным. Разговор развивался медленно, но постепенно перешел к сути дела. Шары, гораздо более послушные воле Сан Саныча, постепенно заполняли его лоток, на моем же сиротливо лежал один «шестнадцатый номер», которого я случайно забил со второго удара кием. По ходу игры Сан Саныч рассказал мне о том, что использование фарта он «подсмотрел» на одном местпромовском заводе в крупном волжском городе, что когда он понял перспективность этого вида сырья, то разослал своих «гонцов» по всем ближайшим ценковальням, кое-что добыл, но самый перспективный завод в Магнитограде Савелий Ильич упустил – там, по его словам, местные технологи запускают производство ценкового порошка из фарта и теперь его никому не отдают. Тут-то я и понял причины испуга Савелия Ильича, но, разумеется, говорить об этом не стал. Мое понимание вселило в меня надежду, что в лице Савелия Ильича я смогу получить здесь очень даже надежного «своего человека», что всегда так приветствуется Ефимом Семеновичем, а потому вслух сказал: - А по нашему предложению, вы, Сан Саныч, получаете фактически товарный кредит и не имеете головной боли со снабжением сырьём,- удар по шару номер семь, который после этого летит через борт. - Аккуратнее нужно, Георгий Евгеньевич, не нужно в каждый удар вкладывать все силы… А, кстати, насколько однородно будет качество фарт-ценка? Если вы его собираете с разных заводов, то и у меня качество будет разным. А это «не есть хорошо»…,- удар по шару номер семнадцать, который бьет почти «в лоб» номера восьмого. «Восьмерка» отскакивает под острым углом к линии удара и влетает в лузу, возле которой я стою. Приходится доставать шар и ставить его на полочку, где уже стоят пять его собратьев, выведенных из игры Сан Санычем ранее. - На этот счет будьте спокойны, источник крупный и стабильный – по пять вагонов в месяц гарантирует,- удар по скособоченной «девятке», которая отскакивает к борту, от него – к кучке из четырех шаров, бьет по одному из них и, после рикошета, останавливается в сантиметре от боковой лузы. - А вот тут вам чуть-чуть энергичности не хватило. Или сноровки… И получилась «подстава». Если бы не французы – а они подарили мне машину «за корректность» - мог бы я воспользоваться этим вашим промахом. Но теперь – положение обязывает! - я таких «подстав» не беру… Хорошо, договорились, сырье ваше и шестьдесят процентов продукции – тоже. Сбыт – моя забота. Комиссионные со сбыта – семь процентов – можете отдавать хоть деньгами, хоть продукцией,- энергичный удар «десяткой» по последней оставшейся от «разбивки» группе шаров, от которого они разлетаются по всему полю биллиардного стола, резко меняя конфигурацию партии. - Нет, Сан Саныч, сноровки мне хватает… Вот опыта маловато… Но я помню спортивные правила – «и с каждой неудачи давать умейте сдачи!»… Так что семьдесят процентов белил – наши, а пять процентов комиссионных – ваши. И кончим эту партию – устал я сегодня в самолете… - Ладно, Георгий Евгеньевич, раз вы про правила «спортивные» знаете, то что ж вас мучить и гонять по лузам… Что в лоб, что по лбу… Сукно столешницы целее будет… Шестьдесят пять и шесть! Договорились? - Договорились – на первые 10 вагонов. А там посмотрим, я в Моркве потренируюсь и сыграем ещё партейку. - Да, конечно! «Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка»… Как написал один мой однокашник по студенческой «практике» на угодьях подшефного колхоза во времена студенческой молодости: На полях морквы до черта, А грязи – впятеро ещё, И для желанного «зачета» Пахать придется горячо… Нынешних-то студентов на «картошку-морковку» не гоняют на полсеместра как нас, может, они теперь грамотнее будут, и помогут нам с вами после окончания своих институтов повысить выход при обжиге фарта, так что со временем прибыль и без «передела доли» возрастет… И он закончил «деловую часть» разговора, сказав: - Подписанный мною договор вы возьмете у моей секретарши. Мы поставили кии на специальную стойку и сели в удобные кресла перед небольшим столиком. Тут же появилась дежурная сегодня официантка – уже не «Клавдия Свиридовна», а Катюша. Она принесла два хрустальных «тюльпана» - специальные коньячные рюмки, на четверть наполненные золотисто-коричневой жидкостью с каким-то истинно французским ароматом, улыбнулась и тут же исчезла. Прав был Савелий Ильич – дважды тут ничего не предлагали… - Это мне «мои французы» прислали,- с гордостью сказал Сан Саныч,- настоящий «Сартр». Я, когда в Париже где-то в скверике по газончику его бредущим увидел, то чуть дорогу не уступил согбенному старичку – настолько живой там памятник ему стоит! - А, кстати, Сан Саныч, вот Сартр – «интеллектуал новой волны», чуть не пол-Европы под свои знамена собрал в шестидесятые годы, а потом оказалось, что его «интеллектуальная собственность» - написанные им книги – почти никому и не нужна. Сейчас в Моркве на любом книжном развале они валяются в мягких обложках и очередей за ними нет… - А у нас любая «интеллектуальная собственность» никому не нужна, если она «собственность». На халяву, конечно, мы и Билла Гейтса с потрохами съели, и «Титаников» разных вместе со «Статскими советниками» на борту в море наших видиков как килек в банке, но все это – хабар, пиратская добыча… - Согласен, паразитов у нас много. Особенно на фильмах и книжках. Но, вы знаете, бизнес «на мозгах» уже не только западная штучка! Новый закон об авторском праве сделал патентование нужным не только соискателям научных степеней и званий, но и действительно «деловым людям». И если вы хотите завтра передать дело детям, а сегодня получать большие «белые деньги» – патент не будет лишним! - Вы что, Георгий Евгеньевич, хотите меня «раскрутить» на очередную страховку? - Да нет, Сан Саныч! Страховаться вы и сами умеете – вон у входа какие у вас молодцы сидят! Я заработать хочу – на вас и с вами. Фарт – новое сырье, патентов на него нет, а если сделать… - Хм… Погодите… У моих французов тоже «бзик» на патенты. Но у них там целый штат юристов да консультантов, да и Франция – не Руссия, законы там другие, менталитет… - Разумеется! Но я вам предлагаю попробовать. А юристов и консультантов в Моркве не меньше, чем в Париже, уверяю вас. И среди моего круга знакомых есть не самые последние из них… - Это реальное деловое предложение вашей фирмы? - Нет, это реальное деловое моё предложение лично вам. Сказал я это твердо и ясно, памятуя предупреждение Савелия Ильича о том, что здесь повторять дважды не следует. Сан Саныч сделал глоток из своего «тюльпана», посмаковал его и явно задумался. Я в это время набил трубку и тоже задумался. Этим поступком я начинал ту самую «свою игру», которая считалась у нас изменой. А именно «измены» и боялся больше всего Ефим Семенович. Но я ведь его предупреждал - я по натуре «кошка, которая гуляет сама по себе»… Как-то в одной из наших редких совместных командировок (так удачно совпало, что партнер был из Чистоводска и мы могли совместить в этой командировке «приятное с полезным» почти буквально – врачи рекомендовали Ефиму Семеновичу и чистоводский горный климат, и обогащенный риново-синатовым участком спектра солнечный свет, порождающий потрясающие по великолепию полуденные радуги, и его же минеральные источники), мы провели вечер за бутылкой пива (всего одной за целый вечер!) и парой рыбок – все ещё «дефицитной» даже в те, «сразупослеперестроечные времена», тарани. Разговор был длинный, душевный и слегка путанный. Но тема «Лукавого», который «стоит над плечом и гадит с улыбкой» была одной из основных. И среди «гадств» Лукавого Ефим Семенович особо выделял его стремление раздуть нашу гордыню и через нее склонить к измене. Измена здесь подразумевалась абстрактная – отказ от заповедей Создателя и нарушение договора с Ним. Но за этой абстракцией явно проглядывало ее «реальное» воплощение – в роли «Создателя» и «держателя договора» в нашей фирме он видел, естественно, себя, а нас рассматривал как ветреных и непостоянных в своих обещаниях евруев ветхозаветных времен. Я, помнится, сказал ему тогда, что не нужно искать черную кошку, а тем более тигрицу там, где ничего, кроме непроглядной черноты и нет… И вот теперь я все же начал «свою игру»… Но я начал ее не спонтанно. Разговоры и предложения по поводу нашего выхода на рынок «интеллектуальной собственности» были многократными и на совещаниях у шефа, и в «застольных беседах» с ним. Исходили они и от меня, и от Тамары Петровны, и от Самуила Лазаревича. Особенно после того, как выяснилось, что бывший начальник патентного отдела ЦИАПа – очаровательная пышечка Алла Сергеевна – открыла собственное патентное бюро. Она и сама приходила к нам и агитировала Ефима Семеновича лично. Безрезультатно. «Но не сдается правый и смелый» - попытки убедить Ефима Семеновича продолжались и в дальнейшем. Мне кажется, что у неудачи наших увещеваний был целый комплекс причин. И неверие шефа в то, что подобный бизнес вообще возможен в Руссии в наше время («обокрадут мгновенно»), и неприспособленность нашего менталитета к такого рода отношениям («Предположим, ты сегодня нужен нынешнему хозяину. Но почему ты надеешься, что и завтра другой хозяин будет тебе платить? Наивно, глупо и опасно»), и начальное несовершенство патентного законодательства и – не в последнюю очередь – то, что занятие таким бизнесом могло повлечь изменения в системе нашей оплаты. В патентном бизнесе ключевыми вопросами являются вопросы о долях тех, кто будет этим заниматься. А доля – это экономическая свобода, немыслимая в рамках нашей фирмы. Да и долговременность патентных доходов могла «расхолаживать коллектив». Короче, шеф был против самой попытки «влезть в это дело». И то, что я сейчас говорил Сан Санычу, не могло быть одобряемо им. А мое внутреннее самооправдание, состоявшее в том, что когда дело будет сделано и появятся первые результаты, то я их преподнесу фирме на «тарелочке с голубой каемочкой» и – за определенную долю, конечно! – предоставлю в распоряжение шефа, было слабым и неубедительным. Поступи я так «на самом деле», получил бы я, скорее всего, не благодарность, а «обходной листок без выходного пособия» - Ефим Семенович просто выгнал бы меня и из кабинета и из фирмы. Все это я ясно осознавал, но надеялся все-таки на то, что «здравый смысл» в, конце концов, восторжествует, и будет у меня «грудь в крестах». Хотя тот же здравый смысл подсказывал, что одновременно с «медалью на грудь» я, скорее всего, получу и «голову в кустах»… Сан Саныч, наконец, принял какое-то внутреннее решение (а среди мотивов, которые им двигали, был, конечно, и тот, что такое мое поведение позволяет ему надеяться получить в нашей фирме «крота»), но начал он издалека, как бы размышляя вслух: - Вы знаете, когда меня водили по парижским достопримечательностям, то рассказали, что есть в Версале один великолепный фонтан – «Энцелад». Сам Энцелад – один из титанов, боровшихся с богами-олимпийцами. Странная и горячая натура - после того, как Афина Паллада погребла его под Сицилией, там начали бить струи вулканов. И стало там горячо… Вот и я чувствую в вашем предложении нечто горячее… И даже, может быть, забьют со временем фонтаны и идей, и денег. Но пока… Пока наш Энцелад не разогрелся! Так что, давайте, Георгий Евгеньевич, не будем сейчас обсуждать этот вопрос подробно. В принципе ваше предложение мне нравится. Вот начнутся поставки фарта, вы к нам почаще ездить будете, тогда, в баньке, и оговорим детали. Да, и не обижайте – «какие наши годы», чтобы о передаче дела детям думать? А вот «белый длинный рубль» - другой коленкор. Вот над этим вы подумайте, да мне в следующий раз растолкуйте поподробнее – что там ваши «эксперты» могут предложить? Мы попрощались и я поднялся на «гостевой этаж» в свой роскошный номер. Честное слово, в пятизвездочной гостинице на Тенерифе было не лучше! Но, расслабляясь в джакузи, нужно было помнить о том, что даже сам Сан Саныч предупредил – откровенные разговоры здесь можно вести только в баньке (И помнить это следовало крепко – как сказал Савелий Ильич, «дважды здесь ни о чем не говорят»). Вероятно, служба охраны и наблюдения включала у Сан Саныча не только отставных спецназовцев на входе, но и имела технические средства слежения и прослушки во всех помещениях. Так что нашу партию в бильярд Сан Саныч еще просмотрит и «со стороны». Но результатами этой партии я мог быть вполне доволен – перед отъездом Ефим Семенович считал, что меня можно будет поздравить с удачей, если мне удастся разойтись с Сидоровым «фифти-фифти». А я привезу в Моркву «шестьдесят пять на тридцать пять»! Но кроме этого успеха я привезу в Моркву и новые проблемы – теперь я должен понимать, что моя «деловая личность» уже не раздвоена между работой у Ефима Семеновича и эвереттикой, а имеет и ещё одну ветвь – «свою игру» с Сидоровым. А успеха на трех фронтах сразу не удавалось достичь ни одному полководцу. Чем-то нужно жертвовать. И вопрос этот не может быть отложен надолго… Провожал меня в аэропорт все тот же Савелий Ильич. По дороге он рассказывал мне о базе отдыха Сидорова, о его дружбе с губернатором, о проблемах с экологией в их регионе, но ни слова не произнес о нашей Магнитоградской встрече. Уже прощаясь, я, как бы между прочим, спросил: - Вот здесь я уверен, что через три часа буду в Моркве. Погода просто отличная. А тогда из Магнитограда мы с Александром Еремеевичем уехали только поездом – из-за дождей аэропорт был закрыт. А вы-то как выбирались? Савелий Ильич удивленно посмотрел на меня и сказал: - Когда я был в Магнитограде, неоловое полуденное солнышко припекало так, что я чуть не сопрел в своем «деловом пиджаке». И все эти дни я любовался полуденной радугой. А дожди там кончились за два дня до моего приезда… О проблемах, возникших в ходе работы по реализации схемы переработки фарт-ценка, визите в Моркву Савелия Ильича, результатах официальных и приватных бесед с ним и возникшей в связи с этим необходимости моего срочного визита к психиатру, а также о сравнительных характеристиках колес обозрения в Магнитограде и Челядьевске. Не знаешь – смертен ты или вечен, Лжец или правый, Развенчан ты или увенчан, Хулой Иль славой. То всё умею и всё могу, То нет – не смею. То сразу снова у всех в долгу, То всё имею. Когда я вернулся из Челядьевска, «фартовая схема» была почти готова. Александр Еремеевич вполне успешно съездил в Домопапово и мы получили ещё полтора вагона фарта в месяц, а Сергей Иосифович очень плодотворно пообщался с директором Царицынского лакокрасочного завода, который согласился на то, чтобы «пожечь» наш фарт на условиях 55 – 45 в нашу пользу. Объемы производства в Царицыне были, правда, маленькие, но, как любил приговаривать Ефим Семенович, «курочка по зернышку клюет…». Зато у него этот процесс шел давно и его опыт мог помочь нам в гораздо более мощном, но и менее опытном Челядьевске. Лукерья Федоровна, обзвонив пол-мира (разве только не пробилась в Атананариву…), уже договорилась и со складами в ближнем подморковье (там можно было хранить нашу долю белил и из Царицына и из Челядьевска), и нашла покупателей в новой области – шинники. В отличие от лакокраски потребность шинников в белилах не была сезонной и это сильно облегчало сбыт. Короче, дело осталось за малым – проплатить деньги за фарт в Магнитоград и Домопапово и начать «двигать по стране вагоны». Но вот тут начались проблемы. Сначала выяснилось, что в области цветной металлургии (а фарт-ценк относился именно к ней) у нас сложился ярко выраженный монополизм и все операции по ценксодержащим материалам нужно проводить через «Росценк» - централизованную организацию, куда на «добровольной основе» входили все производители ценка. Пришось регистрировать наш договор с Магнитоградом в этой «конторе» и платить им какие-то мизерные, но «комиссионные». Это не заняло много времени, но по каким-то мне непонятным бухгалтерско-экономическим соображениям платить нужно было только аккредитвом. А это значило, что сумма в 30 миллионов рублей (первый платеж в Магнитоград) должна была быть передана почти буквально «из рук в руки» в виде одной бумажки с таким номиналом. Технически это было несложно, но вызывало некоторый психологический «напряг» - кому охота возиться с такой дорогой и потому опасной «бумажкой»? Но все эти «бухгалтерские заморочки» были не самыми главными причинами задержки. Что-то странное случилось и в самом Челядьевске. Сан Саныч позвонил мне и сказал, что у него «пока не получается» нормальная работа на печи, которую он предназначал для обжига фарта и просил повременить с началом поставки сырья. Для более детального обсуждения к нам вылетает Савелий Ильич. Он и прилетел буквально на следующий день. Мы с Самвелом встретили его в домопаповском аэропорту и привезли «в контору». По дороге Савелий Ильич был молчалив и «клевал носом», объясняя свое состояние ранним подъемом (самолет из Челядьевска и вправду вылетал в 8 часов утра и встал Савелий Ильич в 5). Но мне показалось, что не это одно было причиной неразговорчивости Савелия. Он явно боялся сказать что-то «лишнее» и предпочитал пока молчать. Единственная байка, которую он поведал нам с Самвелом, состояла в том, что, оказывается, в челядьевском аэропорту орудует шайка профессиональных жуликов, представляющихся морквичами и работающая по схеме «разговор – «потерянный сверток» - деньги – шантаж». После его рассказа, я решил побалагурить: -Неужели мошенники? – тревожно спросил я у нашего гостя, - неужели кто-то может поверить, что среди морквичей есть мошенники? Но Савелий Ильич и вправду был «не в форме» после перелета, поскольку в ответ он так криво и горько улыбнулся, что отпали всякие сомнения: он лично серьезно считает, что да, среди морквичей есть мошенники! После такого результата этого интеллектуального теста я оставил попытки дорожной болтовни и Савелий Ильич задремал… Во время «официальной» встречи и разговора с Ефимом Семеновичем, Савелий Ильич объяснил, что проблема заключается в сложности изготовления специальных керамических муфелей для плавления фарта. Они попробовали расплавить пару чушек, которые выпросил-таки в качестве образцов во время своей поездки в Магнитоград Савелий Ильич, и муфели лопнули при нагреве. Пришлось заняться технологией изготовления муфелей специально, а это оказалось совсем не просто. И Савелий Ильич буквально засыпал нас техническими подробностями, которые он знал и о которых предполагал говорить: составами сырья, режимами формовки и обжига и прочим подобным… Но мне (да и Ефиму Семеновичу) было ясно, что все это – только «первый слой» причин затяжки. Какие-то более серьезные проблемы крылась в чем-то другом. Но вот в чем? Из коротких вопросительных взглядов, которые по ходу разговора с Савелием Ильичом Ефим Семенович время от времени бросал на меня, я понял, что он колебался в оценке Савелия Ильича – «лжец или правый?». В сознании шефа снова возник образ черной кошки измены, на сей раз со шкодливой мордочкой Савелия. А, кроме того, за ней Ефим Семенович угадывал и обольстительный оскал суккуба – самого Сан Саныча… Когда разговор в кабинете Ефима Семеновича был окончен, мы с Савелием Ильичом вышли покурить – он знал, что я курю, но видел, что в кабинете у шефа мне это не позволялось. Курилка наша расположена в лифтовом холле. Так изначально договорились все арендаторы – и от офисов недалеко, и пожарные не против. А удобную для этого лестничную площадку они забраковали – дверь там, видите ли, узкая, и установка урны и кресла для курильщиков совсем загромоздит пожарный выход. Обстановка в курилке немного суетная, но располагающая к свободному общению. И мне показалось, что здесь я смогу «разговорить» Савелия Ильича и прояснить более подробно истинную подоплеку челядьевских колебаний. Закурив трубку, я спросил: - Я возле ваших ворот в Челядьевске видел в парке колесо обозрения. Там даже какие-то детишки катались. А интересно, чем там в Магнитограде кончилось дело с их аналогичным аттракционом? Помните, вы рассказывали нам с Александром Еремеевичем, что там три фирмы перегрызлись друг с другом за доходы от предстоящей аварии? Этим вопросом я хотел показать, что помню наше знакомство и мое молчание об этом за обедом у Сидорова не было случайным, а его «маскировку» в Челядьевске понимаю, но здесь не считаю ее уместной. Савелий Ильич выпустил фиолетовую струйку дыма в красное пожарное ведро, и с любопытством спросил: - Вы, Георгий Евгеньевич, в чем меня подозреваете? Что я амнезией страдаю? Так у меня справка от врача есть – я недавно на права сдавал, пришлось медкомиссию пройти. И в справке черным по белому написано – здоров. Вас я впервые увидел в Челядьевске, когда встречал в аэропорту, а Александра Еремеевича Вольского вообще впервые сегодня увидел. Сказав это, он замолчал и, с легкой иронией во взгляде, ждал моего ответа. Его упорство в отрицании нашего знакомства меня удивило – ведь он же не скрывал, что был в Магнитограде именно по делам приобретения фарт-ценка и даже образцы оттуда привез! Над этим следовало подумать, а потому я не стал настаивать и попытался отшутиться: - А вот у меня такой справки нет! Значит, нужно пойти и обследоваться. И пусть доктор микстуру какую-нибудь пропишет – хорошая память для бизнесмена нужна как слух для скрипача… Но очень похожий на вас человек рассказывал нам в Магнитограде историю про их колесо обозрения. Савелий Ильич принял мои объяснения и согласился с ними: - Это бывает! У меня тоже с памятью не все в порядке, если честно… Вот ведь, чуть не забыл передать вам вопрос от Сан Саныча. Он видел у вас бумаги, связанные с патентным законодательством. И он просил меня узнать у вас – нет ли среди ваших связей хорошего патентного агента? Если этим занимается ваша фирма, он готов сотрудничать с ней. Тут я понял, что у меня точно что-то с памятью и я путаю сны и явь! Но ответил я равнодушно: - Нет, мы не занимаемся этим профессионально. А Савелий Ильич настойчиво продолжил: - А в таком случае Сан Саныч просил передать, что готов поговорить на эти темы лично с вами. И Савелий Ильич голосом выделил лично так, как умеет это делать Лукерья Федоровна, скрывая таким нехитрым образом предложение какого-то кэша. Я ответил: - Хорошо, передайте Сан Санычу, что когда я приеду, мы этот вопрос обсудим. Мы закончили курить и я проводил Савелия Ильича до выхода. Он остановился в Моркве у какого-то родственника, так что вопросов с его размещением не было. Возвращаясь обратно, я никак не мог понять – что же и когда в наших отношениях с Савелием Ильичом и Сан Санычем было «на самом деле», а что – плод моих снов и мороков, вызванных напряжением последних месяцев работы. Первое, что я сделал, вернувшись в рабочую комнату, было обращение к Елене Никоновне с просьбой показать мне тот договор, который я привез из Челядьевска. Она достала его из новенькой папки с названием «Челядьевск. Документы». Я бегло просмотрел его и остановился только на фразе: «…готовая продукция разделяется между Сторонами в соотношении 57,5% «Химбико» и 42,5% «Полуоксиду». Комиссионное вознаграждение за реализацию продукции устанавливается в 6% от стоимости реализации.» Этого не могло быть! Не мог Сан Саныч ТАК меня обмануть, ещё не начав работы с нами. И тем более не мог он этого сделать после нашего разговора о Сартре – в патентных делах начальное доверие необходимо как воздух. Но это было! Под договором стояли две подписи – Сан Саныча и моя, и две печати, одна из которых была оттиснута мною лично – я ясно помнил, что когда я ее поставил, то подумал, что получилась она не очень ясной и «вверх ногами» - нужно было смотреть на специальную метку на ободке, а я об этом забыл. И я ясно помнил, что читал текст перед тем, как подписывать и ставить печать, и там все было правильно – 65 на 35 и 6 комиссионных. И выбор у меня теперь был простой – либо к психиатру за микстурой «от плохой памяти», либо – к компьютеру к статье о природе эвереттических склеек, над которой я как раз сейчас работал. Но жизнь, как всегда, дала решение неожиданное – ни к психиатру, ни к компьютеру я не пошел, а пошел в кабинет к шефу, повинуясь приказу из красной коробочки «громкой связи»: «Все ко мне!». О совещании у Ефима Семеновича по вопросу о ходе работы над «фартовой» программой, демарше Вольского, неожиданном выпаде шефа, крутом вираже Александра Еремеевича, почти полном рассеянии подозрений в глупости и измене, кадровых перестановках командировочных групп, а также о различиях яиц фирм «Химбико» и «Фаберже». Нравы детей в Летнем саду были очень церемонные. Пошептавшись с гувернанткой или няней, какая-нибудь голоножка подходила к скамейке и, шаркнув или присев, пищала: «Девочка (или мальчик – таково было официальное обращение), не хотите ли поиграть в «золотые ворота» или «палочку-воровочку»? Когда все расселись по своим местам, Ефим Семенович, мрачно усмехнувшись, начал совещание необыкновенно «церемонно» с известной всем реминисценции: - Я пригласил вас, господа, сюда, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие… Нет, к нам не едет ревизор… Пока, во всяком случае… Но я не исключаю, что такое событие может случиться. Сказать, что тишина установилась такая, что стало слышно, «как муха пролетит», было бы сильным огрублением ситуации. Такая тишина во время любой речи шефа – дело обыкновенное. Сейчас же «градус тишины» возрос до уровня знаменитых «трех минут молчания» - когда сигнал SOS с терпящего бедствие корабля может быть услышан и без всяких усилителей за сотню миль от места происшествия. Послушав это безмолвие с полминуты, Ефим Семенович продолжил: - Пока изложу факты. Когда схема работы с фартом была уже готова настолько, что я понял неизбежность крупных затрат, я обратился в наш банк с просьбой о кредите. Сначала мне сказали, что я могу быть спокоен – мне дадут лимон «азиатского сорта» в любой момент, как только я официально попрошу об этом. И после успешной командировки Георгия Евгеньевича в Челядьевск я решил, что момент для просьбы настал. В банке попросили день на оформление заявки. Она, дескать, ещё не имеет визы Филиппа Горошкова. Знаю я этого трутня… Он ведь, кстати, в свое время ловко выскользнул из дела моего однокашника, дипломированного нефтяника, а впоследствии «драматурга и режиссера» первой волны приватизации Гусиевича… Через день попросили подождать ещё сутки. А вот сегодня – отказали, сославшись на вздорный пункт «Инструкции ЦБ по выдаче кредитов», в соответствии с которым рекомендуется не делать этого, если требуемая сумма превышает сумму остатка средств на счете. Стоявшую в кабинете тишину буквально взорвало легкое покашливание Александра Еремеевича. - Тут кому-то мои слова поперек горла встали? – с наигранным легким недоумением в голосе спросил Ефим Семенович, и, оглядев присутствующих, обратился к Александру Еремеевичу: - Ты что-то хочешь сказать, Саша? - Да, понимаешь, Ефим, это и правда так. Есть такой пункт в инструкции… - пояснил Александр Еремеевич свой демарш. А его покашливание было именно демаршем – прерывать начальника можно было только в случае, если у тебя имелись какие-то чрезвычайные на то причины! И Вольский, как знаток финансовых вопросов, решил снять напряжение и успокоить и шефа и всех нас – вступительные слова Ефима Семеновича были, по его мнению, чересчур драматичными, а «по жизни» ситуация не выходила за коридор «рабочих параметров». - Конечно, Саша, ты прав, есть такой пункт. И уж я-то знаю это точно – проверил лично, перед тем как страху на вас нагонять. Я бы и не стал ничего сообщать вам, если бы – вспомни, Саша, ты ведь у нас экономист-плановик – этот пункт был именно запретительным, а не рекомендательным. Это во-первых. Во-вторых, если бы отказ я получил от какого-то любого другого, но не нашего банка, директор которого сидит в очереди на прием в те кабинеты, куда я, проходя мимо него, ногой дверь открываю. И, наконец, в-третьих, Саша, если бы я не хотел спросить и тебя, и Георгия Евгеньевича: куда вы смотрели в Магнитограде и о чем там болтали? Такого удара я совершенно не ожидал. И, судя по тому, что и Александр Еремеевич сидел с полуоткрытым ртом секунд тридцать, он тоже побывал в нокдауне. В первую же из этих тридцати секунд головы почти всех присутствующих повернулись в сторону Александра Еремеевича и тишина стала понижать свой градус до уровня чуть ли не шушуканья. Те двое, кто составил исключение из общего порыва, были Илья Давидович, который развернул свое кресло и смотрел на меня, и «Пегей» - Петр Гейдарович – наш молодой растущий «волк», с недавнего времени ставший официальным заместителем шефа и тоже повернувший голову в мою сторону. Из этого факта я сразу понял, что все происходящее действо уже обсуждено этой «большой тройкой» - шефом, Ильей и Пегем. И роли членов тройки расписаны заранее – им важно было увидеть реакцию и Александра Еремеевича, и мою на атаку шефа. То, что Илья «близок к руководству» было известно «изначально» - он был приемным сыном матери Ефима Семеновича и она воспитывала Ефима и Илью как братьев. Однажды Илья даже рассказал мне одно их семейное предание о древней романтической истории в каком-то орловском имении их общего предка, из которой вытекало, что родственность между ним и Ефимом Семёновичем не только юридическая и бытовая, но и в некоторой степени кровная. А вот то, что Пегей реально находится на вершине пирамиды, было для меня новостью. Время растерянности, однако, было недолгим и Александр Еремеевич, «отряхнул перья», поддернул брюки, выпрямил спину и, вовсе не проявляя желания извинительно «шаркнуть ножкой » для «замаливания грехов», как бойцовский петух бросился в контратаку: - А в чем дело, Ефим? Что там стряслось? Договор мы привезли хороший, «своих людей» нашли… Да ты ведь сам в прошлый раз говорил, что наш успех – для фирмы яйца! В пылу словесной баталии Александр Еремеевич не заметил, что процитировал мысль шефа довольно двусмысленно. И наши дамы невольно улыбнулись этому его обороту. Тамара Петровна и Белла Борисовна так просто прыснули, когда Тамара Петровна почти «на автомате» вполголоса добавила к последней фразе Вольского: - Но вряд ли фирмы «Фаберже»… Но это было неважно – важно то, что Александр Еремеевич в этой ситуации занял активную позицию. Я, благодаря этому, тоже пришел в себя и выразил на лице недоумение не менее ярко, чем Паша Эмильевич на вопрос Остапа о том, куда девался стул из приюта для старушек? Ефим Семенович между тем продолжил: - А дело в том, что, как я выяснил с помощью Пегого – ездил он в банк и не зря – к ним пришло «конфиденциальное» письмо из Магнитограда с просьбой сообщить им «кредитную историю» «Химбико». Есть у них, оказывается, основания полагать, что мы – «фирма-однодневка» и работать с нами рискованно. Что, якобы, из переговоров с нашими представителями они эти основания и извлекли. А представителями в Магнитограде были вы с Георгием Евгеньевичем! Вот я и спрашиваю – с кем и как вы там вели переговоры, что после этого в наш банк приходят такие письма? Однако Вольский был уже в «полной боевой форме» и его такой вопрос как будто и не задел. Александр Еремеевич только серьезно и деловито спросил: - А кто подписал это письмо? Ответил Пегей: - Некая Тамара Николаевна Янгель, заместитель начальника Отдела сбыта Магнитоградского металлургического комбината. Александр Еремеевич обвел всех орлиным взглядом, посмотрел на меня – я выражал своим видом недоумение уже вполне искренно – и грозно и твердо сказал, глядя в глаза Ефиму Семеновичу: - Ну, Ефим, это я так не оставлю! Я эту стерву видел, конфетки-конвертики она очень даже любит, но откуда в ее пустой бабской головенке такие мысли завелись – не знаю! Ни о каких делах фирменных наших разговоров не было. Да и когда? Из семи минут нашего с ней разговора «с глазу на глаз», она пять минут глазки мне строила да юбчонку свою мини под жакеточкой-шанелькой рекламировала! Я поеду в Магнитоград и разберусь, какой инкуб ей это все нашептал! Ефим Семенович взглянул на меня – теперь мой вид выражал полную поддержку и солидарность со сказанным Александром Еремеевичем. Как вид Чапаева, после разъяснения Фурманова о том, что именно Ленин был основателем Третьего Интернационала. Ефим Семенович, вероятно, прочел в наших с Вольским глазах то, что волновало его в первую очередь – не было ли тут невероятной глупости или даже «измены» с нашей стороны? Все-таки страх перед черной кошкой и суккубом был его генетическим страхом… Их он не нашел и был весьма доволен этим. А то, что путанное это дело разъяснится – он не сомневался. И принял он такое решение: - Хорошо… Кто горшки побил – тот пусть их и склеивает... На следующей неделе Саша с Илюшей едут в Магнитоград и разбираются там с этой сумасшедшей барышней. И должны приехать с победой – изменить договор с полной предоплаты на частичную. Этот пункт был мне понятен – вместе с Александром Еремеевичем теперь должен ехать Илья – «свой глазок – смотрок». И пусть распутывает эту «херню» Саша, а Илюша – на всякий случай! – присмотрит за Сашей. Ефим Семенович продолжил: - А Георгий Евгеньевич с Сережей Белгородским – в Царицын, разбираться с этими дурацкими муфелями, про которые нам тут челядьевский представитель все уши прожужжал. И что б после этого в Челядьевске не было никаких вопросов! Тоже грамотное решение – с технологией нужно разбираться, да и меня следовало «погонять» по лакокрасочным заводам, раз уж мы втягиваемся в это дело. Но, разумеется, и за мной, после этого странного письма должен быть «смотрок». Хотя в Царицыне и не обязательно такой плотный, как в Магнитограде. Вот и дают мне в помощники «молодого». Чтобы обосновать «по житейски» это свое решение, Ефим Семенович сказал: - И, кстати, денег у нас от всех этих «фартовых дел» пока не появилось ни копейки, а расходы все растут. Поезжай-ка ты, Сережа, с Георгием Евгеньевичем на своей дизельной ласточке. И по пути заглянете в Рязань – там за ними должок остался по бензолу. А потом – в Воронеж. Нашла там Лукерья Федоровна заводик местпромовский, тоже пригодится. А уж там и до Царицына рукой подать! Вот как раз недельку и подышите свежим воздухом! Солярка – за мой счет. И завершил совещание «на оптимистической ноте»: - А во вторник через неделю я беру вексель и схема фарта должна заработать! И через месяц – всем от меня на новые нейлоновые трусы премия в заграничных конвертах будет! О второй командировке Александра Еремеевича в Магнитоград, его «броневой атаке» на госпожу Янгель, её пристрастии к новинкам французской моды, гламурных маневрах Ильи Давидовича, подлом коварстве Савелия Ильича, сокрушительном его поражении, а также о новых конфетах «Играем первую скрипку» бабаевской кондитерской фабрики. Так как же объяснить, что именно она Усвоила сюжет, проникла в содержанье, Пленилась фабулой, героя приняла, Замысловатую интригу в толк взяла, Желая Бедняку не краха, а победы?! … С секретаршей Александр Еремеевич и говорить не стал – ее слабого порыва остановить «эту громадину» он даже не заметил – видеть эту девочку не входило в его планы. Вломился он в приемную с такой скоростью, что, как говорил потом Илья, вид со спины у пиджака Александра Еремеевича напоминал круто скошенный броневой лист танковой кормы. А по уверенности и неотвратимости движения и сам Александр Еремеевич был под стать тяжелому танку «Клим Ворошилов». Тамара Николаевна, в приталенном жакете с узкой короткой юбкой, с губами, накрашенными модной помадой French rose, сидела за столом и читала какую-то бумагу. Она строго и удивленно глянула на ворвавшегося в кабинет посетителя, но мгновенно узнала его, и взгляд ее смягчился. Более того, если бы это не была она – «железный» зам. Начальника Отдела сбыта! – можно было бы предположить, что в этом взгляде промелькнули искорки испуга. Но в данном случае это точно не было испугом, скорее – охотничий азарт. Мрачно взглянув на нее, Александр Еремеевич сказал: - Простите за то, что без стука… Уж очень хотел Вас видеть. Такая откровенность обезоружила Тамару Николаевну. И она показала рукой на свободные кресла перед ее столом, приглашая Александра Еремеевича и Илью Давидовича садится. - А почему так мрачно и так срочно? – спросила она. И, не дожидаясь ответа, продолжила: - Кофе или чай? Вы ведь прямо с поезда, даже в гостиницу не заехали, судя по тому, что морковский пришел полчаса назад, а самолет прилетит только завтра утром. Илья Давидович провел рукой по щеке и в тон ей добавил: - И в поезде не работала электрическая розетка для моей модели «Браун», а Александр Еремеевич пожадничал и не дал мне станок… Кофе крепкий и без сахара. Тамара Николаевна пододвинула к себе коробочку громкой связи и сказала: - Два крепких кофе морквичам и мой чай. Александр Еремеевич поддернул брюки, выпрямил спину и снова стал Карлссоном шестьдесят четвертого размера. Мрачность оставила его, но он по-прежнему был серьезен и собран: - Понимаете, Тамара Николавна, когда мы с вами здесь говорили в последний раз, я серьезно решил «дружить семьями», настолько Вы мне понравились, несмотря на свою молодость. Тамара Николаевна улыбнулась, и прервала серьезный тон Вольского: - Не пытайтесь разуверить меня в вашей искренности, Александр Еремеевич, не говорите мне, что вам не нравятся молодые женщины! Александр Еремеевич понял, что опять экспрессия в его речи затуманила смысл, и попробовал - не очень удачно – выбраться из сплетенной им самим словесной паутины, поспешно пояснив: - Я в том смысле, что увидел в вас прежде всего опытного и разумного руководителя… Тут ему на помощь пришел Илья Давидович: - Но отчет о командировке начал с описания женщины «приятной во всех отношениях», причем не забыл упомянуть о вашем замечательном жакете в стиле «Шанель»… На последней фразе Ильи дверь кабинета открылась и вошла секретарша с подносом, на котором дымились три чашки. Услышав, что разговор идет «в домашнем ключе», она решила поддержать его, сказав: - Тамара Николаевна очень тонко чувствует стиль. Она по духу своему «француженка» и никогда не оденет английского костюма… Было видно, что Тамаре Николаевне нравится ход разговора, но она, как действительно «опытный руководитель» и умная женщина поняла, что обсуждение ее достоинств уже дошло до грани допустимого и пора переходить к сути вопросов, заставивших Вольского мчаться к ней из Морквы: - Спасибо, Катюша… Объяви в приемной, что у меня совещание и пусть подождут минут пятнадцать,- сказала он уходящей секретарше и, обращаясь уже к Илье и Вольскому, спросила: - Так в чем дело? И Александр Еремеевич, уже полностью владея собой, рассказал, что ее письмо вызвало у руководства нашей фирмы вполне понятное недоумение, поскольку никаких оснований для подозрений в наш адрес мы не давали, да и объективно непонятна позиция Магнитограда – мы ведь платим предоплату. А само письмо вызвало недоверие к нам со стороны банка и получать кредит стало гораздо труднее. И завершил изложение ситуации прямым вопросом, заданным им специально, чтобы Илья Давидович мог слышать ее ответ: - Так что же в моем поведении настолько насторожило вас, что вы написали это письмо в наш банк? Тамара Николаевна слушала очень внимательно и как будто что-то вспоминала. Услышав вопрос Вольского и прекрасно поняв положение Александра Еремеевича, она, «желая Бедняку не краха, а победы», сказала, глядя в сторону Ильи: - Если в отчете о командировке Александр Еремеевич говорил обо мне, как о «даме, приятной во всех отношениях», то я, в разговоре со своим начальником, характеризовала его как «нового бизнесмена из старых морквичей», имея в виду издавна известную морковскую щедрость и деловитость. Так что ни лично Александр Еремеевич, ни ваша фирма у меня никаких сомнений не вызывают. И никакого письма в ваш банк я не подписывала. К тому же и право подписи у меня было только в течение недели, пока Глеб Сергеевич, мой начальник, был в отпуске, а вернулся он на второй день после подписания мною договора с вами. Илья Давидович полез в портфель и достал ксерокопию письма. Тамара Николаевна прочла его и удивленно сказала: - Да, это моя подпись. И бланк наш, комбинатовский. И даже текст этот был у меня в руках… С каждой ее фразой фигура Александра Еремеевича уменьшалась. И к концу этой серии реплик его Карлссон уже был «представительным мужчиной» солидного, но отнюдь не выдающегося пятьдесят восьмого размера. Однако следующая серия высказываний Тамары Николаевны вызвала обратный процесс: - Но я его не подписывала! С этой бумагой приходил ко мне один наш старый партнер из Челядьевска, Савелий Ильич, и что-то такое говорил о том, что нас, дескать, обманут, что верить «первым встречным» нельзя… Но я же уже видела и Александра Еремеевича, и Георгия Евгеньевича – о нем, кстати, спрашивал Рашид Фархутдинович из техотдела – и в глаза поглядела, и конфеты ваши морковские уже попробовала – вкусные были конфеты, понравились мне они… Какие же вы «первые встречные»? И я порвала тогда эту бумагу, а Савелию Ильичу посоветовала не мутить воду, а добросовестно работать с солидными морковскими партнерами… Но, вероятно, что-то тут Савелий все же «нахимичил»… Мы, конечно, пошлем в ваш банк разъяснение о том, что просим считать это письмо недоразумением и не придавать ему никакого значения, а уж с Савелием Ильичом разбирайтесь сами… По окончании речи Тамары Николаевны Александр Еремеевич не только вернулся к прежним габаритам, но и превзошел их. Он победно взглянул на Илью, благодарно – на Тамару Николаевну и уверенно сказал: - С Савелием разберемся, к Рашиду зайдем, а то, что барышни с «французским вкусом» любят морковские конфеты я понял сразу, а потому и прихватил коробочку… И он полез в свой кейс, в котором лежала роскошная коробка новых бабаевских конфет «Играем первую скрипку». - Вот вы и есть первая скрипка в этом деле! Играем, конечно, мы, но музыка получится, только если первая скрипка нас не подведет… Его речь подхватил Илья: - Я расскажу нашему шефу, что Александр Еремеевич в отчете о первой своей командировке в Магнитоград нисколько не приукрасил достоинств нашего партнера. И даже больше я скажу, если вы позволите: что нам разрешено начать не с полной предоплаты, а с 70%, поскольку банк наш все-таки встревожен… Тамара Николаевна секунду подумала, а потом сказала: - Ну, что ж! Такие кавалеры не могут не покорить женское сердце. Передайте своему шефу, что эти 30% я жду до второй отгрузки. И еще. Когда будете разбираться с Савелием, скажите ему, что б зря ботинок не топтал – в мой кабинет он больше не попадет. И, считая разговор оконченным, поднялась с кресла. Встали и Илья с Вольским. Последняя фраза осталась за Ильей: - Кофе был хорош. Но, когда вы будете в Моркве, я обещаю вам, что и наш чай окажется не хуже, чем напиток, изображенный на известной картине «Чаепитие в Мытищах» и придется вам по вкусу. А уж про «конфетки-бараночки» и говорить нечего – нет лучше морковских! Уже выходя из приемной они услышали по громкой связи: - Катюша, забери чашки! И перебрось Челядьевск в картотеке в «черный список»… О нашей с Сережей поездке по городам и весям Южной Руссии, случившихся при этом приключениях, моих размышлениях в стогу сена под Воронежем, нашем посещении историко-культурной достопримечательности на Оке, возникших при этом литературных ассоциациях, а также о моей успеваемости в школе в связи с объяснением эффекта «полуденной радуги». Стог принимает на закате Вид постоялого двора, Где ночь ложится на полати В накошенные клевера. Сказать, что неделя, проведенная нами с Сережей на колесах, доставила мне «истинное удовольствие», если честно – не могу. Три главных объекта – Рязань, Воронеж и Царицын – на пути «туда», и унылая «необитаемость» трассы на пути «оттуда» физически вымотали до предела, до навязчивой мечты забраться под прохладный душ и не вылезать оттуда пару часов. Техника нас, слава Богу, не подвела, потому что «в случае чего», застрянь мы где-нибудь под Воронежем, и «нас не догонишь» - техцентров для обслуживания этой шведки модели S40 там днем с огнем не найдешь. Но не зря говорят – надежная машина. Не подвела. Чем Сережа очень передо мной гордился. Но я, как и всякий «профессиональный пешеход», особенно этому и не удивился – машина для того и сделана, чтобы ездить! В своей принадлежности к классу «млекопитающих пешеходящих» я убедился давно. Однажды, когда я после института командовал взводом в «братской Монголии» в составе ни в каких публичных документах не зафиксированной «2-й Гвардейской Тацинской орденов Суворова и Сутулова второй степени с закруткой на спине» танковой дивизии, мне довелось практически поупражняться в вождении. Вел я бензовоз на базе ЗИЛ-157 по абсолютно ровной грунтовке в начале пустыни Гоби. Через полчаса моего «висения на баранке» дорога почему-то стала поворачивать влево. Не круто, но поворачивать. Но даже эта крутизна оказалась для меня сверхкритической. Руки, вероятно, затекли, или замечтался я на монотонной дороге об «любезной моему сердцу Катерине Матвеевне» - точно не помню. Но только не вписался я в этот поворот, влетел в откуда-то взявшийся в пустыне кювет и, нажав вместо тормозной педали педаль газа, буквально взлетел на этом бензовозе в ясные риновые монгольские небеса. Полет по продолжительности был значительно короче, чем, скажем, полет Гагарина. Да и на орбиту я не вышел. Скорее его можно сравнить с суборбитальным полетом Алана Шепарда в мае того же, «гагаринского» 1961 года, на космическом корабле «Фридом 7». Но мощность у моего мотора была значительно меньше, чем у американовской ракеты «Редстоун 3» и мой апогей оказался, к счастью, значительно ниже. В ходе полета состоялся мой доклад техническому специалисту, ответственному за эксплуатацию управляемого мною средства передвижения. Сидевший рядом со мной водитель, которого я и подменял, дав парню поспать после ночной суеты учебной тревоги, проснулся и задал мне один краткий вопрос: «Чо?!». И я ответил ему столь же немногословно: «Летим!». В этот момент полет и закончился полумягкой посадкой, как и положено в космонавтике – в ровной и пустынной местности… За ремонт рессор в автобате взяли «по божески» - две бутылки местной водки «Архи». Были у меня и еще аналогичные по результатам попытки «укротить железного коня», после которых я согласился с классиком советской литературы: «Рожденный ползать летает плохо» и навсегда оставил намерение сидеть в автомобиле за баранкой. А вот Сережа был истинным шофером «от Бога». Он и по призванию, и по образованию был автомобилистом. И даже когда после нескольких часов пути я, борясь с желанием «отключиться» и поддерживая его бодрствование пустой болтовней, задавал какой-нибудь дикий вопрос типа: «А как работает иммобилайзер?» (это слово я услышал из разговора Сережи с каким-то водителем на автозаправке), он внятно и монотонно отвечал: «Поступление топлива блокируется с помощью кодированного стартового устройства и клапана топливного насоса. Стартер также блокируется. А что?». После этого мне ничего не оставалось делать, как протянуть «с пониманием»: «Ах, вот оно в чем дело!.. Да ничего, просто я запамятовал код…» и задать следующий вопрос уже из какой-то иной области, не связанной с автомобилизмом: «Сережа, а вы картошку с грибами любите?». Проблема питания в эту неделю доставила нам некоторые хлопоты. Закусочных «Фаст фуд» попадалось совсем немного (а за пределами областных центров их не было вовсе), а ассортимент всех этих грязных, как правило, еще с «совковых времен» придорожных «кафе», включавший в большинстве своем самопальные котлеты и костлявую жареную рыбу, ни энтузиазма, ни аппетита не вызывал. Как и положено в таких ситуациях, мы, ностальгически скуля о недоступных сосисочных лернейских гидрах буфетчицы Эммочки, обходились в основном копчеными «ножками Буша» и баночными паштетами с хлебом, сдабривая все это свежими помидорами и огурцами и запивая «Кока-колой». Но и, разумеется, устраивали себе «праздники чревоугодия» в изредка попадавшихся действительно новых частных ресторанчиках, которые демонстрировали зарождение «среднего класса» и в руссийской глубинке. Ночевки бывали разные – от вполне комфортабельной в Рязани, до «чисто походных» - в салоне нашей шведки. Запомнилась ночевка в Царицыне. Прежде всего, царицынские степи оказались действительно унылыми и серыми, украшенными только красивыми издалека волнами колышимого ветром ковыля, напоминающими настоящее море, да прежде невиданные мною ветряки. То, что это действительно может быть подспорьем в энергетике, я узнал от академика Алфинзбурга. Он как-то на одном из своих семинаров, на которые я ходил ещё до начала работы у Ефима Семеновича, рассказывал о своей поездке в Голландию, где уже тогда ветряки серьезно работали на экономику страны. Помнится, что на том самом семинаре Алфинзбург прошёлся и по поводу знаменитого в те времена письма Нины Андреевой («Собака лает – караван идет…») и, пойманный мною в перерыве буквально за пуговицу, признался: «Не верю я в теорию Эверетта!». В сам Царицын мы приехали поздно вечером и в гостиницах мест не было. Удивительно, но Царицын как-то ухитрился переместиться из «социализма» в «капитализм», сохранив этот типично советский дефицит гостиничных мест. В шикарном «Интуристите» швейцар – в ливрее и с галунами – сжалился над нами и «шепнул верный адресок» - гостиница «Цирк». К «Цирку» мы подъехали где-то в начале второго душной южной ночи. Стояла гостиница среди темноты то ли «частного сектора», столь многочисленного в Царицыне, то ли в районе глухого сквера. Сережа остался в машине, а я отправился «брать места». В полутемном холле за столом дежурной сидела миловидная девушка и читала книжку. Когда я открыл стеклянную дверь, заскрипевшую своими металлическими штырями крепления, она подняла на меня удивленный взгляд, и спросила: - Вам чего? Вопрос ее свидетельствовал о том, что сюда, вероятно, заходили по разным надобностям. Иначе было непонятно, зачем дежурная администратор гостиницы интересовалась моими потребностями? То, что среди ночи я хотел спать и для этого готов заплатить за номер, было очевидно. Я, однако, удовлетворил ее любопытство, ответив: - В гости к вам приехал! С хорошим приятелем. Нам бы номер на двоих… Судя по первому впечатлению, я был готов ко всему – даже к варианту, когда нам предложили бы одноместный номер с односпальной кроватью. Имел я опыт подобного рода, когда однажды мы с Александром Еремеевичем отдыхали таким образом где-то под Великими Луками… Тогда, кроме «сиротской кровати» в номере был только грубый, но прочный табурет ручной работы, «пионерский» письменный столик с пластмассовой коробкой радиотранслятора и старый гардероб с отчаянно скрипучими дверцами. Общение с такими гардеробами требует известного навыка, о котором я как раз недавно прочел у О’Ванкоба: «В первый раз их открываешь с особенной осмотрительностью, очень медленно, в пустой надежде приглушить раздирающий скрежет, нарастающий стон, который их дверцы испускают на середине пути. Вскоре, впрочем, понимаешь, что если открывать или закрывать дверцу проворно, одним решительным рывком, беря проклятые петли врасплох, то наградой тебе служит победная тишина». Именно так я и делал. Но зато какой роскошный вид открывался из окна – раскидистый дуб над живописной рекой! И со спальными местами нашли выход – притащили из холла диванчик… Но здесь, кажется, и такого комфорта ожидать не приходилось. Дежурная оценивающе посмотрела на меня и спросила: - А удостоверение члена творческого союза и командировочное удостоверение к нам у вас есть? Я много езжу по командировкам, но, «покатавшись» по Руссии уже стал забывать об этих приметах «позднего социализма». Улыбнувшись, я сказал: - Нет, таких бумаг у меня нет, а есть шоколадка лично для вас и деньги на оплату номера за сутки. Может быть, этого хватит для того, чтобы переночевать остаток ночи, ведь утром мы уедем? Оказалось, что «не достаточно», и милая девушка двинулась на меня, явно вытесняя из холла к выходной двери. Когда я оказался на улице, она проволокой стала скручивать внутренние ручки, чтобы я не смог вернуться, и говорила мне при этом осуждающим тоном: - И зачем вы сюда приехали ночью?.. Вас же здесь ограбят обязательно! После этих слов она закрутила остатки медной проволоки в белой полиэтиленовой изоляции и отправилась дочитывать свою книжку. Ночевали мы в машине… Но, конечно, особенно запомнилась ночевка под Воронежем на обратном пути. Думаю, что если бы не мое эвереттическое понимание вечности, можно было бы сказать, что обстоятельства этой ночевки запомнились «на всю оставшуюся жизнь». Случилось это в тот момент, когда я, борясь с приступом дремоты, придумывал какой-нибудь новый вопрос для Сережи, а он, несмотря на свою молодость и преданность автоспорту, все-таки «вырубился» на шестом часу непрерывной езды по уже темной ночной трассе. И спасло нас только то, что шоссе было абсолютно пустым, а стожок на противоположной стороне трассы – большим, но мягким. «Стог принимает на закате» нашу шведку в свои объятия жёстко, по-мужски, оставляя на капоте следы короткой борьбы, но и нежно – обошлось без «членовредительства»… И этот сон на свежем сене, взрыхленном при экстренном торможении нашей шведки, был, пожалуй, самым сладким за всю неделю. Даже несмотря на то, что нас предупреждали – именно под Воронежем действительно «пошаливают» на дорогах и ночью лучше не искушать судьбу. Вот уж в этой черноте точно водились «черные кошки» и смертельно опасные соблазнительные суккубы! Кстати, у всякой медали, как известно, две стороны. То, что «под Воронежем пошаливают» и потому там ночью мало кто рискует ездить по трассе, которая по этой причине бывает чиста на много километров, скорее всего и спасло нас – в отсутствие этого криминогенного фактора мы почти наверняка влетели бы кому-то «в лоб»: траектория нашего движения по отношению к осевой линии была очень пологой – даже «вырубившийся» Сережа крепко держал руль… Из «культурной программы» осталось в памяти посещение окского села – родины певца «Руси уходящей». Место и само по себе красивое – село над окской кручей – к тому же уже и «окультурили»: отреставрировали господский дом, построили административный корпус с конференц-залом и ресторан и предоставляли «услуги гида-экскурсовода для организованных туристических групп». День был ясный, солнечный. И любовались мы природой как раз во время второй половины «полуденной радуги», тогда, когда цвет Солнца «переламывается» от неолового к фиолетовому, синему, голубому и, через красивейший, но очень короткий, максимум на пять минут, «зеленый луч» - к обычному оранжевому. Меня всегда поражает это быстрое время «игры» солнечного цвета. Физический смысл этого явления элементарно прост, он осваивается в шестом классе на начальных уроках физики. Помню, что именно за ответ по этому вопросу я получил сначала чистую «пару» - вместо выполнения домашнего задания в предыдущий день я взахлеб читал «Сказку для научных работников младшего возраста» братьев Иосифовых. Но после такого позора (это была моя первая - и последняя! - двойка по физике) я выучил все так, что «от зубов отскакивало». Я помню свой ответ на «исправлении оценки» почти дословно до сих пор! А сводится объяснение к следующему. Мы видим в коротковолновом участке спектра четыре цвета – фиолетовый, риновый, неоловый и синатовый. А прозрачность атмосферы для последних трех сильно зависит от толщины слоя воздуха, то есть – от высоты Солнца над горизонтом. Зависимости тут нелинейные, да и чувствительность колбочек глаза – сложная функция от спектрального состава света. В результате в ясный солнечный день в середине лета (зимой Солнце не поднимается в наших широтах на достаточную высоту, чтобы попасть в «окно риново-синатовой прозрачности») наблюдается короткое, но очень красивое явление – в течение примерно часа до полудня цвет Солнца меняется от оранжевого до неолового, а потом, после полудня, картина меняется в обратном порядке. Зеленый луч мы поймали как раз на терраске знаменитого дома, в окружении «контингента интуристов», специально для которых администрация в этот момент включает запись то ли Вари Паниной, то ли Анастасии Вяльцевой (к стыду своему я их путаю): Глядя на луч, зеленый, полуденный, Стояли мы на берегу Невы. Вы руку жали мне; промчался тот нетленный, Тот сладкий миг, его забыли вы. До гроба вы клялись любить поэта; Боясь людей, стыдясь пустой молвы, Вы не исполнили священного обета, Свою любовь – и ту забыли вы. Групп было немного, в основном – интуристы (в том числе и удивившие меня ценители цветов саккуры), но требующаяся мне лично для восприятия таких мест тишина и покой были явно недостаточны. Лирика как-то «не прорастала» в душе. И, видимо, «по контрасту», вспомнилась «политика». И одна строфа из знаменитой поэмы почему-то всплыла в сознании и прочно укоренилась в «оперативной памяти», явно претендуя на подробное осмысление: «Скажи, Кто такое Ленин?» Я тихо ответил: «Он – вы!» Осмысливать что либо под стрекот «гидов-экскурсоводов» и щелканье затворов цифровиков и мыльниц я совершенно не мог и в этот момент пожалел, что наша с Сережей поездка не пришлась на какой-нибудь дождливый октябрь. В голове невольно возникли строчки одного моего хорошего знакомого, поэта «на всю жизнь», а временно – охранника в эйлатском супермаркете: Когда придет, та, Болдинская осень, Кого возьмет в горячечный свой плен? И до Болдина, и до Эйлата было далеко, далеко было и до Царицына – цели нашей поездки, и совершенно мне было неясно – возьмет ли кого-то «в поэтический плен» приближающаяся осень даже и в Болдино. В современной Руссии с осенью чаще ассоциируют не поэтические грезы романтической Европы XIX века, а, скорее, прагматические устремления Америки века XX: «цыплят по осени считают». Счет «цыплят», «лимонов», «арбузов» и, конечно, «азиатов» стал явственно слышен не только на «торжищах», но и «в храмах Искусства». А когда говорят деньги – Музы молча снимают хитоны. Как говаривала незабвенная служанка Прони Прокоповны: «Барышня легли и просят…» Побродив по усадьбе и деревне, полюбовавшись разноцветьем полевых цветов – пестрыми венчиками грубых васильков с их необыкновенно богатой раскраской, островками почти столь же пестрой «Иван-да-Марьи с пострелятами», двуцветными одуванчиками с яркой неоловой сердцевинкой, порханьем бабочек (особенно много было почему-то лимонниц, причем преобладали самки – или мы просто не видели самцов с их гораздо более темными крылышками?) мы сфотографировались у знаменитой калитки, где «девушка в белой накидке сказала мне ласково: "Нет!"» и отправились дальше… В ходе нашего путешествия у меня оказалось достаточно досуга, чтобы подумать о странных событиях последнего времени. Особенно плодотворной оказалась та прекрасная ночевка в стогу под Воронежем. Я долго не мог уснуть и от пережитого стресса и под впечатлением картины великолепного вида неба с яркими риновыми и неоловыми туманностями и молодыми звездами, образующими «опорные точки» звездной карты. И мифы о древних богах, чудовищах и героях, всех этих Данаях, Уроборосах, Одиссеях, Никах Самофракийских, Морфеях, Бахусах и прочих, вознесенных поэтической фантазией на заре европейской цивилизации на небо, как-то сплелись в один клубок. В наступившей полудреме этот клубок превратился в сплав, который как-то странно перекристаллизовался и в нем почему-то появились Андромеды, Кассиопеи, Персеи, Орионы… А в момент появления у бистательной Афины с яркой туманностью бабочки на голове еще и каких-то волос Вероники, я, наконец, уснул. Обстоятельства, при которых мы оказались в этом стогу, как-то с абсолютной ясностью продемонстрировали мне алгоритм Тегмаровского бессмертия. В нашем случае место пистолета у виска занял руль послушной шведки в Сережиных руках. Я живо представил себе те ветвления, в которых на месте стога с сеном оказался ствол серебристого тополя или бетонный столб какой-нибудь местной линии электропередачи. Представились и варианты более даже вероятного лобового столкновения. После этого мне пришло в голову, что странности последнего времени имеют ту же физическую природу – они есть ветвления и склейки в барбуровском мультиверсуме, которые проявляют и реализуют разные варианты «логических последовательностей событий». Часто в очень близких ветвях, но – в разных! Действительно, моё «раздвоение» в Челядьевске – типичный пример ментальной склейки. В одной ветви я уговорил Сидорова на «65 на 35» и предложил заняться патентованием, а в другой – мы разошлись только «50 на 50» и я не рискнул поддаться на совет Лукавого. А «на самом деле» логически связанным с нынешним моим положением в барбуровском пространстве оказалась наша договоренность с Сан Санычем, которая отразилась в бумаге, лежащей в папке Елены Никоновны – «57,5 на 42,5». Но как происходил наш торг, что мне помогло, что помешало и как при этом решилось дело с патентами – я не помню абсолютно! Только судя по нашему разговору с Савелием Ильичем в нашей курилке – и здесь я не поддался на соблазн, но что-то такое все же сказал Сан Санычу, раз Савелий Ильич сделал мне такие странные предложения от его имени. После такого осознания загадочных фактов я почувствовал, что теперь мне будет гораздо легче разбираться в происходящем – мой мультивидуум уже не только во сне приходит мне на помощь. Но это значило и то, что эти загадочные факты теперь, вероятно, будут происходить чаще! И к этому нужно быть готовым. И ещё я теперь точно знал, что и Лукавый, и его соблазны – это только иные воплощения меня самого, определенный тип ветвей моего мультивидуума – супергекатонхейра в барбуровском пространстве реальностей. И живут в моем мультивидууме эти Лукавые во множестве – что ни соблазн – то свой Лукавый… О нашем отчете по командировке на рабочем совещании у шефа, комментарии Ефима Семеновича заявленных нами отчетных цифр, его проницательности, самокритичности и щедрости, обмене мнениями с Александром Еремеевичем в общественной курилке, а также об эвереттических ветвлениях возможных причин повреждения капота Сережиной «шведки». Твой фотоснимок мы подретушируем, В усталые глаза добавим бодрости. Чуть-чуть подтянем губы (так – решительней) Исправим лоб (он был не в той пропорции) Но все вышеизложенное не вошло в наш отчет по командировке на заседании в кабинете Ефима Семеновича в понедельник. Согласно нашему отчету за время командировки мы, как доложил Сережа о технико-экономических показателях нашего «автопробега по бездорожью и разгильдяйству», сожгли всего 157 литров солярки на 2676 километров пути, но, правда, при этом значительно уменьшили остаточную высоту рисунка протектора – до двух с половиной миллиметров, что, конечно, ещё допустимо по ПДД, но приближается к нижнему пределу. Я же сообщил о состоявшихся встречах и выполнении поставленных перед нами производственных задач следующим образом. Во-первых, мы решили проблему рязанских долгов: бензола у них не было, но они согласились отдать бензином, который мог быть отправлен в Магнитоград в качестве оплаты за очередную партию фарта. Во-вторых, пообщались в Семитыквах под Воронежем с руководством местпромовского лакокрасочного завода. Однако, судя по всему, сотрудничать с ними не следовало – уж очень жуликоватыми они нам показались, очень противно пахнул предлагавшийся нам «для знакомства» самогон и очень похожей на пластилин оказалась их продукция, которая «по ГОСТу» должна была быть «рассыпчатым порошком чистого белого цвета». Увидев все это, я предложил семитыквенцам наши новые «добротно-экологические маслорастворимые ингредиенты» для понижения слеживаемости порошков, и они обещали подумать над моим предложением. В-третьих мы поняли возможную причину разрушения муфелей в Челядьевске – они хранились там под открытым небом, а, как нам рассказали «асы обжига» из Царицына, прочность при прокалке очень сильно зависит от влажности – пористые стенки муфелей сорбируют влагу очень прочно, а потому хранить муфели необходимо только в теплых сухих помещениях и выдерживать их там до использования по крайней мере месяца три. Чего в Челядьевске, конечно, сделано не было. После завершения нашего с Сережей отчета Ефим Семенович как-то задумчиво и невесело посмотрел на Сережу, и сказал: - Судя по заявленному вами километражу, Сергей Иосифович имел в школе по географии тройку, а, как говорится, в таких случаях, «в компании с лешим семь верст не крюк»... А если учесть состояние капота его шведки – я обратил внимание на стоянке на свежие царапины, «украсившие» ее скулы за время вашего вояжа – он еще и баранку не всегда твердо держит… Миллиметров я, конечно, не мерил, но резина явно «лысая» - пора менять. Он помолчал, давая понять, что ему известно о наших приключениях гораздо больше, чем мы рассказали на совещании. При этом мне было неясно, что же вызывает у него явное недовольство – сами доложенные результаты нашей поездки или те усилия, которые мы с Сережей приложили для их достижения. Но, как тут же выяснилось из дальнейших его слов, ни то, ни другое. Вывод Ефима Семеновича был для меня неожиданным: - А посему объявляю себе выговор с предупреждением о неполном служебном соответствии за то, что так перегрузил эту вашу командировку «бытовыми мелочами». Елену Никоновну попрошу оплатить солярку по двойному тарифу и выдать обоим «Колумбам руссийских дорог» по триста «Чингизханов» (или Чойбалсанов? Никак не могу запомнить всех этих азиатских героев-полководцев!) в качестве премии и для снятия остатков того стресса, который они испытали в ходе этой поездки… Увидев на наших лицах мысленно запланированную и ожидаемую им смену выражений - от тревожного ожидания к удивленной радости – он завершил совещание словами: - Все свободны. Можно перекурить и оправиться, а через пятнадцать минут прошу ко мне Сашу, Илюшу, Тамару и Георгия Евгеньевича. А Сережа может взять Самвела с моей машиной и отправить свою шведку в автосервис – этой автобарышне нужно ликвидировать облысение колес и поправить макияж. Ну и прочую мелочевку, которая выявится при диагностике… За мой счет, разумеется… Сознаюсь честно – его ответ на наш отчет был «не в той пропорции», которую я ожидал. Мои ожидания были гораздо пессимистичнее, но тем приятней оказалось ошибиться!.. В нашей курилке на площадке 3 этажа, где, как всегда при встречах после длительных командировок, мы с Александром Еремеевичем обменивались новостями, нам составил компанию и некурящий Илья. Его мы посадили на единственное кресло, выставленное какими-то доброхотами из фирмы по реализации газонокосилок, а сами курили стоя – видимо, по меткому наблюдению Ильи, в надежде, что «так больше влезет» и накапливали запас «подкожного антикотина» для предстоявшего совещания у шефа. А совещание предстояло очень непростое. Александр Еремеевич рассказал мне о подлой роли челядьевского Савелия Ильича и предположил, что шеф может вообще закрыть фартовый проект, поскольку работать с партнерами, которые так начинают сотрудничество, он явно не горит желанием. Я понял, что именно мне придется спасать идею Тамары Петровны, поскольку был единственным, кто побывал в Челядьевске и вел переговоры с Сан Санычем. И моральная ответственность за надежность Челядьевска (занесенного в «черный список» в Магнитограде!) ляжет на мои плечи. Но это уже не смущало меня – понимание ситуации, возникшее на той памятной ночевке в стогу под Воронежем, давало мне основания для надежды на успех. Илья спросил о том, откуда взялись эти царапины на капоте, о которых шеф упомянул на совещании, но я не стал вдаваться в «истинные детали» и сказал первое, что пришло на ум – дескать, это след от куска рубероида с обрывком проволоки, свалившегося на нас с грузовика, который мы обгоняли. Илья хмыкнул, но дальше уточнять не стал. Я же подумал, что вот так, благодаря нашей «фантазии» и активности сознания, и возникают новые ветвления реальности – теперь я мог ожидать склейки с миром, где на трассе Царицын – Морква из плохо закрытого кузова груженого строительным мусором тупорылого «Мерсебеса-Бемца» на крутом повороте и при сильном боковом ветре вылетает именно кусок рубероида с прилипшими к нему блямбами цементного раствора и обрывком проволоки и – бемц! – падает на капот нашей шведки, идущей на обгон. Продумывать детали этой склейки у меня не было никакого желания. Да и пора было возвращаться в «нашу реальность» и идти на очередное совещание. О ключевом для судьбы «фартового проекта» совещании, выступлениях на нем Тамары Петровны, Ильи Давидовича, Александра Еремеевича, моих телефонных разговорах «в прямом эфире» с Сан Санычем и Савлием Ильичем, признании последним своих ошибок, моем эвереттическом объяснении сложившейся ситуации, историческом решении шефа о начале реализации «фарт-проекта», а также о не менее историческом прецеденте при выплате зарплаты. От спора мы ушли. И стало все бесспорно… Но брошенные зерна Вдруг дерзко проросли. Это совещание было действительно серьезным и обошлось без призывов «закатать рукава» и «крутить диск до посинения». Присутствовали все те, кто реально имел отношение к фартовому проекту и чье мнение было важным для решения его судьбы. Отсутствие Пегего, взявшего на сегодня отгул и сидевшего на даче в ожидании бурильной установки, которая должна была обеспечить его «фазенду» автономным источником питьевой воды, в данном случае не было существенным. Да я, честно говоря, и не очень хотел его участия в обсуждении – у него явно сложилось отрицательное отношение ко всему этому делу после того, как он добыл в банке копию того письма из Челядьевска. И мне, в случае его присутствия, нужно было бы преодолевать и его скепсис. Шеф начал совещание по деловому: - Я думаю, что все здесь достаточно информированы о результатах двух последних командировок в Челядьевск и Царицын и не будем тратить время на их изложение. Давайте по кругу, кто что думает по сути – начинать нам это дело, или отпрыгнуть в сторону пока не поздно. Сегодня нужно принимать решение – беру я завтра аккредитив в кредит или мы расходимся и начинаем поиск нового направления. Начинайте, Тамара Петровна, вы ведь у нас автор этой идеи… Тамара Петровна всем своим видом выражала упрямое недоумение. Она и начала с его выражения: - Ну, а чего тут думать? У нас что, есть какая-то другая схема? А здесь все связано – есть и сырье, и переработчик, и сбыт. И рентабельность больше пятидесяти процентов! А что какой-то Савелий нам гадит – так мало ли нам гадили с ММА и третбутировым эфиром? Вы только вспомните, как в том же Волглом их «дочерний кооператив» «Лидер» чуть ли не грязь подливал в наши цистерны с ММА, чтобы только испортить нашу репутацию и перехватить клиента? А ведь тамошний «папа» у вас, Ефим Семенович, «с руки кушал»! Так что я не вижу причин для отказа. А то, что есть риск, так он везде есть. Нету риска – нет и денег. И мое мнение я выражу словами Ильи Давидовича: «Вперед на танках за орденами!». Ефим Семенович слушал внимательно, а когда Тамара Петровна замолчала, все так же упрямо глядя перед собой, он прокомментировал ее слова так: - Понятно… Вперед, значит… Вот только вопрос – достаточно ли крепка наша броня и достаточно ли быстры наши танки… Груз ведь на них будет – почти тридцать лимонов кредита… Ты как думаешь, Илья? – обратился он к Илье Давидовичу. Илья начал подчеркнуто спокойно и аналитично: - Я согласен с Тамарой Петровной в том, что ничего другого, кроме фарта, у нас сейчас за душой нет. И именно поэтому нужно трижды подумать, куда и когда его отправлять. То, что Магнитоград его даст, я теперь, после встречи с этой их «железной леди» Тамарой Николаевной, уверен. И конверт она положила в карман своей французской жакетки, и глаз на Александра Еремеевича тоже. Шеф прервал его: - И куда же, по твоему, отправлять? Илья посмотрел на меня, и сказал: - А это Георгию Евгеньевичу виднее – он и в Челядьевске был, и в Царицыне печи видел… И, повернувшись к Тамаре, добавил: - А пословиц у меня много, Тамара Петровна! Вот, например, такая – лучше порох в пороховницах, чем соль в ягодицах! И как бы отправка в Челядьевск не принесла в наши филейные части заряд этой самой соли… Заныкает Сидоров со своим Савелием фарт – чем кредит отдавать будем? Или – пуще того – контракт с Черноморией, который вроде бы через Беллу Борисовну наклёвывается, сорвем!.. Тамара Петровна хотела что-то возразить, но Ефим Семенович не дал ей слова: - Помолчи-ка пока, Тамара, дай всем высказаться, а потом и спорь! И он повернулся к Вольскому: - Ну, а ты что скажешь, Саша? Александр Еремеевич вышел из раздумья, поддернул брюки, выпрямил спину и доверительно произнес: - Понимаешь, Ефим, и Тамара права, да и у Ильи резоны справедливые. В Магнитограде теперь и правда «полный порядок», фарт у них есть и они его нам отдадут. Сидорову там теперь долго нечего делать, а кроме нас столько фарта сегодня у них никто не купит. Но надо бы все-таки яйца по разным корзинам… (Тамара Петровна не удержала улыбки, вспомнив, вероятно, перл Вольского о яйцах фирмы). И хотя бы еще поговорить с Челядьевском, что б они поняли – не лохи мы и шутить так больше с нами не надо… Ефим Семенович закурил свою трубку (вот когда мне потребовался «подкожный запас» антикотина!) и обратился ко мне: - Георгий Евгеньевич, вам завершать этот «казачий круг»! Вы везде были, все и всех видели, и сейчас все мнения высказаны, так что скажите нам теперь – можно ли все-таки верить Челядьевску? Это – главный сейчас вопрос. У меня уже сложился план изложения моего видения ситуации. И я сказал: - Прежде всего я считаю целесообразным поговорить с самим Челядьевском. Сначала с Сан Санычем, а потом и с Савелием Ильичом. И поговорить прямо сейчас, чтобы все слышали не только слова, но и интонации. А потом уж продолжить обсуждение. Ефим Семенович придвинул коробочку селекторной связи и сказал: - Лукерья Федоровна, соедините мой телефон с Сидоровым. Скажите ему, что Георгий Евгеньевич хочет с ним поговорить. Дожидаясь соединения все сидели тихо, поскольку Ефим Семенович включил «конференц-режим» и пододвинул ко мне аппарат, прижав при этом палец к губам, призывая всех к молчанию. Но молчали все по-разному. Тамара Петровна - упрямо, Илья Давидович – корректно, но с равнодушием, Александр Еремеевич – задумчиво, а Ефим Семенович – явно напряженно, часто поднося к губам свою старую итальянскую трубку. Длинные гудки, наконец, оборвались, и раздался голос Сан Саныча: - Алло? Георгий Евгеньевич? - Здравствуйте, Сан Саныч! - Рад приветствовать вас, дорогой! - Как дела, Сан Саныч? - Да конституционно идут дела, бунт на корабле подавлен… - Какой бунт, Сан Саныч?! Что стряслось? - Да не телефонный это разговор, Георгий Евгеньевич! Вот приедете за первой партией белил – поговорим подробнее. А пока вопрос – отгрузка фарта скоро? Я уже заказов набрал на белила и для себя, и для вас… И с муфелями разобрался. Так что жду от вас сырья. Я взглянул на Ефима Семеновича и он энергично замахал головой – мол, будет ему сырье! - А чего его долго ждать, Сан Саныч? Разводите огонь в печи – завтра-послезавтра даем команду на отгрузку. Так что к концу недели ловите вагоны – там от Магнитограда до вас меньше суток пути. - Ну, и отлично! А мне на переработку тоже неделька нужна. Так что через пару недель жду. Баньку к вашему приезду протопим, а в ней и поговорим! Вы не забыли мою просьбу, которую я через этого шкодливого дурака передал? - Я ничего не забыл, Сан Саныч! А вот вы нарушаете свое правило – дважды ни о чем не напоминать. Мне про это ваше правило Савелий Ильич еще в первый приезд растолковал. - Ну, хоть и шкодник он и дурак, а это он вам правильно сказал. Но что-то у меня в последнее время с памятью стало – путаю порой явь и грезы: что говорил, что слышал, что только хотел сказать… Отдыхать пора! Вот приезжайте не на день, а на недельку, вместе и отдохнем у нас на озерах!.. А Савелия с собой возьмем и епитимью на него наложим за его шкоду – пусть нам под пиво раков ловит! - Спасибо, Сан Саныч! Но вы – птица вольная, а у меня шеф есть злющий. Боюсь, что на недельку не отпустит… - А вы ему отрапортуете, что Челядьевск все сделал даже раньше, чем по договору – я вам это обещаю – вот шеф ваш и смягчится, и отпустит ко мне на рыбалку да по грибы! Ну, до скорого! - Спасибо, Сан Саныч, и до свидания! В трубке пошли короткие гудки и я обнаружил, что все смотрят на меня как на именинника. Первым нарушил молчание Вольский: - Ну, дело ясное, что дело темное, однако понятно все же, что сам Сидоров от Савелия Ильича открещивается, списывает все на «дурную самодеятельность» и «глупость» Савелия. Верить в это нельзя, но и обижать неверием – тоже ни к чему. Будем считать, что так все и было. Важно то, что Сан Саныч виляет хвостом как побитая собака и, думаю, слать фарт теперь в Челядьевск можно месяца два-три спокойно. Отшила Сан Саныча Тамара Николавна капитально, и пока они не «помирятся», наш фарт в Челядьевске будет в безопасности. А помириться им мы не дадим как можно дольше. И за этим я послежу сам и отсюда, из Морквы, и на место, в Магнитоград, наезжая… Его прервал Илья: - Конечно, нужно Саше хоть раз в месяц «для здоровья» видеть Тамару Николаевну. А все же вагончик я бы и в Царицын послал… Александр Еремеевич подхватил: - Конечно Илья! Даже пару можно… У Тамары Николавны теперь фарта вдоволь – весь возьмем! Я снова напомнил о себе: - А теперь, Ефим Семенович, разговор с Савелием. И вы увидите, что все не так просто! Ефим Семенович на этот раз дал команду Белле Борисовне и через минуту в кабинете раздался испуганный голос Савелия: - Кто говорит? Георгий Евгеньевич? - Да, это я, Савелий Ильич… Приветствую вас! Говорил я дружелюбно и бодро, а из динамика услышал агрессивный и даже обреченный тон: - Ну, что, теперь и вы на меня собак вешать будете? - За что, Савелий Ильич? Динамик не поверил в мою искренность и продолжил тем же тоном: - Да ладно, чего уж там… За англичанку эту Магнитоградскую!.. - Какую англичанку, Савелий Ильич?! Голос из динамика продолжал упорствовать в своей обреченности, но постепенно обрел и исповедальные обертоны: - Да такую, что подписала мне тогда письмо… Которая в «британском стиле» прелести свои перезрелые содержит… Но не будем лукавить друг перед другом – мы же взрослые люди. Барышня она, как вы помните, сильная и стильная, но жадная и бедная. Ездит, между прочим, на «Тойноте». И взять ноту выше классом очень даже не прочь… Вы, понятно, щедрость-то свою морковскую сразу не развернули (и правильно сделали, аванс – не масло, может кашу и испортить), а мне терять было нечего – нам фарт как воздух нужен. Ну, я вижу – солнышко светит ясное, тени неолово-синатовые на английском костюмчике Тамары Николавны поигрывают, бесенята в глазках ее приплясывают, я и пригласил ее в ресторан «для делового разговора». Я слушал Савелия Ильича и наблюдал за выражениями лиц Ильи и Саши. Сказать, что они выражали недоумение было бы слишком слабо. Оба – а особенно Александр Еремеевич – были просто ошарашены, огорошены, оглоушены и заворожено впились взглядами в динамик телефонного аппарата. А он продолжал исповедь голосом Савелия Ильича: - Ну, приходит она вечером в модном классическом британском твиде, покрой модели - в стиле «принца Уэльского»… Вам еще подробности нужны? - Да нет, конечно, Савелий Ильич! Вы и так передо мной как на исповеди, а я ведь не священник. Здесь впервые я услышал нотки надежды: - Ну, не скажите, Георгий Евгенич! Это смотря в каких мирах! Для меня вы сейчас – не меньше патриарха. Если я не получу от вас отпущения грехов, Сан Саныч меня не просто выставит за ворота, а еще и бубнового туза на спину прилепит… Я уже все понял, но решил уточнить для Александра Еремеевича: - Так вы говорите, что тогда в Магнитограде была хорошая погода? Савелий Ильич удивился этому моему вопросу: - Две недели подряд жарило как на Голгофе!… И уж это – точно. Это у меня в памяти сидит как гвоздь. Вы представляете себе, что могло заставить женщину в такую погоду напялить твидовый костюм? - Спасибо за разъяснения, Савелий Ильич! Думаю, что теперь-то мы сработаемся. И кто старое помянет… Передайте Сан Санычу, что телеграмму об отгрузке фарта мы вышлем сразу. - Конечно, передам, Георгий Евгеньевич! – радостно воскликнул микрофон. – А когда вы приедете… Я перебил его, понимая, что он сейчас начнет благодарить, а это было бы совсем не к месту. И я спросил: - А вы помните окончание пословицы про «старое помянет»? Савелий Ильич поперхнулся – он действительно «разогнался» меня благодарить и этим вопросом я сбил его с дыхания. И он недоуменно сказал: - Нет… И я закончил разговор: - Там сказано: «А кто забудет – оба!». До свидания, Савелий Ильич! Савелий Ильич все-таки хотел еще что-то сказать, что-то объяснить, как-то благодарить, и из динамика зазвучала какая-то невнятица: - Мне Сан Саныч велел… Когда нам позвонила секретутка этой стервы…Не тратили их факсовую бумагу… И забыли номер телефона… Спасибо, Георгий Евгенич!.. Я положил трубку на рычаг. Ватное молчание повисло в кабинете. А Тамара Петровна и Ефим Семенович с недоумением смотрели то на меня, то на ошарашенных Сашу и Илью. Первым «очнулся» шеф: - Георгий Евгеньевич, объяснитесь! И я объяснился. Я рассказал, что известная нам Тамара Николаевна Янгель является ярой поклонницей французской моды и только под угрозой стрижки наголо могла бы надеть костюм фасона «принца Уэльского», что к моменту, когда Савелий проник в ее кабинет, там уже побывал Александр Еремеевич, очаровал ее и преподнес «коробку конфет», что ко времени нашего прибытия в Магнитограде уже неделю как шли дожди и что все это подтверждается и второй командировкой в Магнитоград Саши и Ильи и лежащим в банке вторым письмом от Тамары Николаевны. Но также фактом является и то, что Савелий Ильич в солнечный день после неудачи Александра Еремеевича покорил сердце ярой поклонницы английского стиля Тамары Николаевны Янгель и добился от нее ответного чувства, о чем свидетельствует ее первое письмо в наш банк. И то, и другое – равноправные реальности. Но это разные реальности! И взаимодействуют они по законам эвереттики, о которых я написал ту книгу, которая стоит в этом кабинете в книжном шкафу и имеется у всех присутствующих дома, ибо каждому она была в свое время вручена автором с автографом, в котором содержалась надежда на ее прочтение и понимание. Пока звучал этот мой монолог, каждый из присутствующих построил свою версию событий. У всех они были разными и у всех не объясняли всей полноты картины. Но ни один из сидевших за столом, тем не менее, не принял моих объяснений всерьез. Правда, и возражать никто не стал. Возразить было нечего, а верить не может заставить никакая проповедь и никакие факты. Любой факт может получить объяснение с позиции истинной веры. Иногда это бывает трудно, иногда и вовсе не удается, но всякий истинно верующий в какую-то систему мировоззренческих аксиом обязательно верит и в то, что «на самом деле» такое объяснение есть, и оно найдется, не сегодня, так завтра. Или через тысячу лет. Но – найдется! Вера, как и фортуна, есть эманация свободная и своенравная. Вера поселяется в душе, а фортуна берет за руку только по своей воле и никто не знает того, как эту волю «здесь и сейчас» склонить себе на пользу. Илья Давидович, память у которого была весьма острой, а нюх на грозящие опасностями «сомнительности» просто феноменальным, вдруг спросил: - А что это такое говорил Сан Саныч про свою просьбу Георгию Евгеньевичу? Не обсуждали мы никаких просьб Сан Саныча… И он подозрительно посмотрел на меня. Я понял, что и на этот раз эвереттика осталась за бортом нашего корабля, «от спора мы ушли и стало все бесспорно». От безысходности я хотел было ответить Илье какой-то колкостью, но меня опередил Ефим Семенович: - Помолчи, Илья! То, что сказал в объяснение ситуации Георгий Евгеньевич – важно и, может быть, даже очень важно! Но это – философия и метафизика. А я – практический бизнесмен. И не хочу сейчас разводить антимонии и пускаться в абстрактные умствования. Практически же я решил, что завтра с утра Пегей с Еленой Никоновной едут в банк за аккредитивом. Вместе с ними – Георгий Евгеньевич. Для представительности… Да и лишний смотрок за такой бумагой не помешает! Потом мы передаем аккредитив «Росценку», а уж после этого Александру Еремеевичу нужно будет звонить этой вашей французской англичанке и давать команду на отгрузку четырех вагонов фарта в Челядьевск и одного – в Царицын. … Когда мы вышли из кабинета, Тамара Петровна очень серьезно спросила меня: - Так что же такое реальность, Георгий Евгеньевич? И чему можно верить? И я ответил: - Абсолютно реально только то, что вы ощущаете «здесь и сейчас». Все остальное - возможно и становится реальным «там и тогда», где и когда окажетесь вы. Разумом можно выбрать себе цель. Но заставить себя верить невозможно ничему. Да и не следует тратить на это душевные силы. Когда приходит Вера, она сама берет вас «в горячечный свой плен». А если ее нет – ищите те эвереттические ветвления, где она живет в вашей душе. Как искать – я не знаю… Вот где-то у Роберта Зеляжны я прочел: «Как можно убедить собеседника в существовании другой реальности, если эта реальность – только мое субъективное видение? Но я верю, что нахожусь в ясном сознании». И он говорит о вере, но источника ее не называет… После такого напряженного совещания трудно было ожидать чего-то такого, что вызвало бы всеобщий интерес. Однако Ефим Семенович смог преподнести всем сюрприз. Когда до конца рабочего дня оставалось всего полчаса, из динамиков на рабочих столах прозвучала речь, которую иначе, чем «покаянная», расценить было трудно. И звучали динамики гораздо дольше чем обычно, когда из него раздавались только оперативные команды. А сказал Ефим Семенович так: - Завтра с утра Елена Никоновна едет в банк. И вы все знаете зачем. Мы начинаем новое дело и я беру для него кредит. Денег своих у нас уже нет – и это вы тоже прекрасно знаете! Последнюю фразу он произнес с каким-то то ли надрывом, то ли вызовом – но в любом случае было ясно, что далась она ему с трудом. Продолжил же он уже почти спокойно: - Очень надеюсь, что это дело вернет нам уверенность в завтрашнем дне. Но моя надежда основана вовсе не на том, что фарт нас озолотит. Просто он даст вам возможность проявить новые инициативы и для них у нас снова будут свои деньги. А вот уже с них мы и будем и «жирок подкожный» наращивать, да и Канары новые планировать… Он снова помолчал, собираясь с духом, и, наконец, перешел к главному: - А пока… Это будет последняя поездка в банк в этом месяце. Для тех, кто не расслышал, повторяю – ПОСЛЕДНЯЯ поездка в этом месяце. И настоящую зарплату я вам заплачу только с первых фартовых денег. Но, все-таки, мы и сегодня ещё «на плаву», и нарушать традиции я не буду. За этот месяц все получат одинаковую зарплату. Раз мы в одной лодке, то и поделим оставшиеся крохи по-братски… Слушали молча, а потом все повернули головы в сторону стола Елены Никоновны. Она также молча встала. В руках у нее была пачка сотенных азиатов. Она отсчитала три бумажки, достала кошелек и убрала в него эти деньги. Потом подошла к ближайшему к ней столу Александра Еремеевича и в полной тишине положила ему на стол также три бумажки. Эта почему-то гнетущая процедура повторилась у каждого рабочего стола. Последним был стол Лукерьи Федоровны. После того, как банкноты легли на него, в руках у Елены Никоновны остались три купюры. Она демонстративно пересчитала их и направилась к двери кабинета шефа. Ни через пять, ни через десять минут она из кабинета не вышла. А вышла она через четверть часа, пряча заплаканные глаза, и вслед ей из динамика громкой связи раздалось: - Если есть новые идеи – все ко мне. Если нет – по домам. Через пять секунд динамик снова ожил: - Я так и думал… Никто ни с идеями, ни с благодарностями за зарплату в дверь не стучится… Ну, значит, все свободны… И никто из нас, молча ушедших «по домам», не увидел, как Ефим Семенович, оставшись, наконец, один в своем кабинете, расслабился и погрузился в медитацию. И понеслись в его сознании неожиданные рваные мысли вовсе не о деньгах, кредитах и прибыли, а о геологических эпохах, запечатленных слоями земной коры; о мириадах крохотных энтомологических органических существ, обнаруживаемых в пустотах земли, под сдвинутыми камнями, в ульях и курганах, о микроорганизмах, микробах, бактериях, бациллах, сперматозоидах; о неисчислимых триллионах биллионов миллионов неосязаемых молекул, удерживаемых силами межмолекулярного сцепления в единой булавочной головке; о целой вселенной человеческой сыворотки с её созвездиями красных и белых телец, которые сами суть целые вселенные пустого пространства с созвездиями иных тел, из коих каждое вновь делимо на составляющие, опять-таки делимые, так что делимое и делитель все делятся и делятся, не достигая окончательного раздела, покуда, если достаточно продолжить процесс, нигде и никогда ничего достигаться не будет. А после этого вихря мыслей, как и предсказывал Ошо, наступило очистительное блаженство пустоты сознания, той пустоты, которая на ступень глубже животворящего хаоса, и с которой можно и дальше пойти вверх по ведущей вниз лестнице Бытия… Глава 14 О начале вечерней компьютерной сессии, письме окраинского писателя Лавентинова и моих соображениях в связи с высказанными им суждениями, в том числе о загадочных артефактах, грезах о покаянии журналиста Леснова, а также о коллекционной работе индонезийского ремесленника. Все совершается как надо, Хоть и не сразу, не сполна… На полке кухонного шкафа я нашел пакетик с сухим картофельным пюре, в холодильнике – калачик полукопченой колбасы с сыром, кружка с кофе была недопита ещё с утра, а хлеба хватило бы на взвод солдат – я забыл, что Ната оставила мне два батона и, возвращаясь домой, купил еще два – что б, значит, «не бегать лишний раз»… В моей комнате на столе уже накопилось множество предметов, которые как-то незаметно занимают рабочую плоскость, не оставляя места даже листку бумажки «для записи» срочной телефонной информации: немытая кружка, конверт из страховой компании, пузырек с «каплями датского короля» (что-то покашливать стал), пепельница с горкой табачной золы и отработанных трубочных фильтров, провода коммутации блоков питания аккумуляторов фотоаппарата и мобильника, две нечищеные трубки, три зажигалки, старые очки, не первой свежести трубочные ершики, пластмассовые коробки от CD, файлы с какими-то распечатками, и, конечно, книги – и те, что были просмотрены, и прочитанные, и требовавшие срочного прочтения… Я сдвинул всю эту массу к краю, не стал обращать внимания на упавшие ершики и зажигалки, поставил кастрюльку с картофельным пюре, приготовленным только что из заваренного крутым кипятком содержимого красивого желтого пакетика, положил колбасу, хлеб, пакетик майонеза и включил компьютер… Задач у меня сегодня было три: ответить на почту, прочесть очередной вариант биографии Эверетта, составленной Женей Цивошвехом из Тормасока (он размещен на одном из англоязычных сайтов и мне было очень интересно сопоставить его с материалами моей заветной Гибралтарской папки) и, наконец, хотелось поработать над многострадальной статьей, центральная идея которой была очень для меня важна, но оформить ее достойно никак не получалось. Начну, конечно, с почты. Здесь нужно быть очень аккуратным – забудешь ответить пару раз и можешь не только потерять контакт с интересным человеком, но и приобрести в Сети репутацию «глухого тетери», а это значит, что и тебе отвечать не будут – «в узких кругах» такого рода информация расходится широко и быстро. Так, что же залетело в мой почтовый ящик сегодня? Неужели только мошка спама? Опять про «гарантированные e-mail-рассылки» и «дачные участки от 1 гектара»? Нет, не только! Вот забавное письмо: «Кажется, вот разгадка продолжающегося бреда во Вселенной...». Автор приглашает посетить сайт, где эта разгадка представлена. Но если какой-то простак клюнет» на эту приманку – жирнющий «червь» влезет в «камень» его компьютера. Лохи клюют на любопытство, а «черви» - на лохов. Таков закон компьютерных джунглей… Ого! А вот и действительно важное письмо! Из сопредельного государства от и вправду хорошего писателя и историка Андрея Лавентинова. Я познакомился с ним во время одной командировки в «бывшую матерь городов Руссийских» - Кыйив. Матерь, по моим впечатлениям, для своего возраста выглядит просто прекрасно, а за последние годы и вовсе расцвела! Может и правда, что «на склоне лет», как и в юности, «самостийность» полезна для оптимистичности мироощущения? Я, во всяком случае, нашел живущую самостоятельно «матерь городов» буквально омоложенной и кое в чем – например, в свободном дыхании уличной стихии - даже превосходящей свою знаменитую дочку Моркву. Правда, кое в чем другом это омоложение явно «переходит разумные границы» и превращается в синдром «впадения в детство» с его непомерным эгоизмом, обидчивостью, склонностью к необдуманным шалостям, неспособностью трезво оценить свои силы и отсутствием элементарной бытовой воспитанности… Но это все «общие впечатления» о городе. Тем более, что и для Лавентинова не родного – он из другой окраинской столицы. Да и встреча наша была короткой и достаточно формальной. Запомнил я только эмоциональное выступление Лавентинова на каком-то заседании, посвященном «альтернативной истории», на которое меня каким-то образом занесло. Собралось довольно много «альтернативщиков», но, насколько я понял, никто из них ничего не слышал об Эверетте. По приезде в Моркву я написал Лавентинову письмо, в котором и задал несколько вопросов о «теоретической базе» альтернативной истории в понимании ее практических деятелей – писателей. И вот теперь получил ответы на них. В самом главном я оказался прав – эвереттика пока оставалась для них «тера инкогнита». Вот что пишет мне Лавентинов: «Об эвереттике как таковой я до Вашего письма не подозревал, но что мешало мне прийти к аналогичным выводам самостоятельно? Тем паче я худо-бедно историк. По-моему, так и получилось. Поэтому эвереттика не вызвала у меня ни отторжения, ни особого удивления. И так бывает. И этак тоже». Понятно. Для 99% жителей Земли с точки зрения их практических нужд и деятельности совершенно все равно, стоит ли она на трех слонах и черепахе, являет ли собой центр коловращения светил - Солнца, Луны и «сферы неподвижных звезд», или как рядовая планетка крутится вокруг Солнца, увлекаемого в свою очередь вихрем галактического вращения… Но в таких вопросах совершенно неважно ощущение большинства. Большинство и Зворыкина от Зорькина вряд ли отличает, но телевизор смотрят все! Важно то, что для 1% (а, может, и чуть больше?) это – не пустой вопрос. И то, что Лавентинов «нутром» дошел до близкой к эвереттике точке зрения – тоже не пустяк! Значит, она отражает столь очевидные для мыслящего человека вещи, что и без «математической оболочки» легко «принимается внутрь»… Далее Андрей Леонтьевич так комментирует мое предположение о том, что, например, по одной монете 1686 года, найденной в культурном слое XII века, или по одному автографу Пушкина 1841 года можно считать экспериментально доказанным эвереттическое явление склеек реальностей: «Никто одной монете не поверит - если она не в мощном "контексте" иных источников. И рукописи не поверит тоже. Между прочим, "Слово о полку" - обычная подделка и все (специалисты) это знали с самого начала. И что?». Здесь я должен согласиться. В подавляющем большинстве не поверят. Но уж в вопросах веры это – вообще не аргумент. В бога Вицлипуцли не верят гораздо больше, чем 99,99% людей. Но можно ли на этом основании делать логический вывод о том, что такого бога нет? Вместе с тем мы оказались полными единомышленниками в вопросе о состоянии «официальной науки»: «Насчет "официальной науки" - разговор длинный. Мне кажется, что она сейчас подобна Церкви в 18 веке - застой, кризис, стагнация, догматика. И дикое самомнение. Научное познание - только ОДИН ИЗ способов познания мира, тем паче, не панацея и (еще тем паче) не самоцель. Ученые во многих вопросах столь же ограничены, как и жрецы. Кастовое мышление!» Краткая и точная характеристика. Но разговор об этом действительно «длинный» - тут очень важны «нюансы». Вот, например, попалась мне тут в рассылке «Обзоры препринтов astro-ph» Сергея Попова такая рецензия: «Я перевел expectation bias как эффект ожидания. Возможно, что это не лучший вариант перевода, но, на мой взгляд, он передает суть. А суть в том, что, проводя эксперимент, нацеленный на получение некоторого ожидаемого результата (следующего из строгой теории, или просто из предрассудков), экспериментаторы зачастую именно этот результат и получают в результате какой-то ошибки. Ошибка не обнаруживается быстро, т.к. экспериментаторы оказываются удовлетворенными результатами опыта, находящимися в соответствии с ожиданиями». Это, конечно, «тонкость», но «тонкость» системная, присущая всей парадигме «официальной науки» и зря Сергей маскирует проблему, говоря что «ошибка не обнаруживается быстро», тем самым подразумевая, что она все-таки обязательно обнаруживается. Кто «копал» первоисточники под этим углом зрения хотя бы лет за сто?... А вот ещё одно очень любопытное высказывание Лавентинова: «О Фоменке. Тут не надо путать теплое с мягким. Историки исследуют НАШЕ (нас, реальных, сегодняшних) Прошлое - это и есть "поле битвы". За иные "Прошлые" они не берутся - не их хлеб. Ветвлений-ответвлений Истории может быть даже додекальон с нональоном, но разговор-то идет только об одном, нашем варианте. Вот тут и пляшем. И тут Фоменке ловить нечего. Подумаешь, "Альмагест"! Я находил в древних слоях (хоть скифских, хоть римских) такое! Скажем, современную сковороду или пивные бутылки. И что, станем пересматривать всемирную хронологию? Такие деятели тоже есть ("секретная археология", гвоздь в юрском периоде). Вот если наткнуться и в самом деле на нечто совершенно необъяснимое, это да, тут можно подключать хоть анти-Оккама, хоть Тейяра де Шардена. Но сначала пощупать бы как следует». Обязательно нужно развить эту тему в дальнейшей переписке. А ее хотелось продолжить, поскольку я вижу - «все совершается как надо, хоть и не сразу…». Сам же этот пассаж, по-моему, являет пример перепутывания «теплого с мягким». Но для этого, прежде всего, нужно разъяснить Андрею Леонтьевичу понятие эвереттовских склеек. И после этого он должен осознать, что именно из-за «нональона» ветвлений и склеек у нас нет единственного прошлого! А то, что пивные бутылки у скифов были и гвозди в юрском периоде наличествовали – важное свидетельство Лавентинова как профессионального историка. Не знаю, право, что же ещё нужно найти, и как следует его «пощупать», чтобы обратить в эвереттическую веру «исторического Фому»? Может, откопать в какой-нибудь пещере ещё не умершего Христа? Так ведь найденную живую плоть поместят не на престол Собора Святого Петра, а в какую-нибудь комфортабельную палату номер 118 клиники профессора Стравинского. И единственное, что изменится в этом мире, будет вразумление какого-нибудь журналиста, пишущего на «научные темы» и пробравшегося по балкону в эту обитель с целью взять сенсационное интервью. Я так и вижу, что журналист, ну, скажем, по фамилии Леснов или Подлесков – неважно! – стоит перед «пациентом» и между ними происходит знаменитый диалог: - Хороши ваши статьи, скажите сами? - Чудовищны! – вдруг смело и откровенно произнесет Леснов. - Не пишите больше! – попросит «пациент». - Обещаю и клянусь! – торжественно произнесет Леснов. И будет свято выполнять эту клятву «всю оставшуюся жизнь», максимум, в чем давая себе послабление, это пописывание время от времени эссе на темы профессиональной журналистской этики с покаяниями перед пострадавшими от его пера согражданами. Правда, изредка он все-таки нарушает обещане и, не подписывая своих статей (максимум – обозначая авторство инициалом), пытается помочь чему-то действительно новому пробиться в «официальную науку»… На всякий случай я проверил почтовый ящик. И не зря! Только что пришло письмо от Изи Кацмана, моего давнего знакомого. Пишет он редко, но никогда попусту. На сей раз Изя просто прислал цитату из газеты: «РГ: Раз уж пошел такой разговор, скажите, на кого из семьи был похож Аркадий? Иосифов: Если судить по фотографиям, на своего дядьку Арона, который был командиром красного партизанского отряда во время Гражданской войны и погиб под Севском. Одно время, рассказывали, в Севске даже была улица имени Арона Иосифова». Руссийская газета, № 191, 30.08.2005 Я мгновенно понял, почему Изя прислал мне эту цитату. Дело в том, что мы с Изей к 70-летнему юбилею Б.Иосифова подготовили один материал, основой для которого послужили документы необъятного Изиного архива. Вот что мы писали тогда Борису Натановичу: Из путевого дневника И.Кацмана (публикуется в книге «Севский чех» и здесь впервые обнародуется): ...комиссар Феликс, вместе с королём Яном-Казимиром, в ходе руководства народным хозяйством разрушенной ими страны и с целью финансирования новых собирательных лагерей освобождающего труда, выпустили в далёком 2086 году то ли в Жатске, то ли в Севске какую-то хитрую монету из плакированного красной кровяной солью железа (т.н. «железный Феликс») с надписью: «Когда горит душа, мойте руки холодной водой с гелем Comet». Этот Изин отчет опубликован в Интернете, но никаких откликов он тогда не вызвал. И вот теперь оказывается, что город Севск каким-то мистическим образом действительно связан с родом Иосифовых! И столь же «мистически» эта цитата перекликается со словами Лавентинова: «Никто одной монете не поверит - если она не в мощном "контексте" иных источников». И Мультиверсум, как будто откликаясь на вызов Лавентинова, посылает нам сигналы, которые должны услышать «те, кто имеет уши», и к найденной Изей севской монете начинает «прирастать» «мощный эвереттический контекст» источников! Я ещё раз проверил почтовый ящик, но больше ничего интересного не обнаружил… Перед началом выполнения второго пункта программы вечерней сессии я заварил маленькую чашечку кофе. Чашку взял из коллекции – грубая керамика с объемным лягушонком, ползущим по ее выпуклому борту. Работа неизвестного балийского ремесленника… Об одной классификации чудес, бюрократизме английских полицейских в Гибралтаре, моей встрече с Ольгой в кафе испанского клуба любителей игры в домино, ее знакомстве с Марком Эвереттом и той его посылке, которая неожиданно нашла адресата даже не пересекши границы Руссии, а также о культуре обслуживания в испанских учреждениях общепита. - Ну, как дела? - Мария родила. - Собачий холод! - Плотник он. Немолод. - Звезда была? - Метель… Такая мгла, Что где там звезды? Нет дороги в город! - Так, значит, и волхвы не добрались? - А что в газетах? - Кажется, ни слова. - Газеты наши слишком заврались, Что б чудеса описывать толково. Чудеса бывают разными. Об одних пишут в священных книгах («по воде аки по суху»), про другие спрашивают психиатры («Так что вам, голубчик, сказал Наполеон?»), о третьих вообще не говорят: пропали тапочки или трусы – пойди да купи новые… То, что произошло со мной месяц тому назад в жаркой Испании, можно было бы «списать» на перегрев, солнечный удар, злоупотребление аперитивом, просто на мое вранье, если бы не лежала серая папочка с бумагами в ящике моего стола, да не было в компьютере электронной папочки под названием «Гибралтарские документы». Во время нашей последней поездки с Ефимом Семеновичем на отдых в Аль-Гарви, мне, конечно, здорово повезло! Эта оплошность порт-у-галльской турфирмы, которая не проверила мой паспорт достаточно внимательно прежде, чем продать тур в Гибралтар, безусловно, является пресловутым «перстом судьбы», а если употребить более привычный для меня термин – склейкой. Причем такой склейкой, которую явно следовало расценивать как подарок. Кто и почему дарит такие подарки – вопрос метафизический и мне лично неясный. Но – «на всякий случай!» - я поблагодарил тогда Того, Кто Ведет Мою Судьбу. А дело было так. Когда после шестичасового путешествия в составе туристической группы на автобусе из Порт-у-галлии в Испанию на англо-гибралтарской границе английский полицейский «достучался» до меня, я понял, что за линию испано-гибралтарской границы мне дороги нет. То есть пройти я имел полное право, но вот выйти обратно в Испанию из-за каких-то особенностей моей визы – нет! По каким-то дурацким пограничным правилам мне «нет дороги в город» и я должен был покинуть Гибралтар только на самолете и только летящим на родину - в Руссию. Пришлось расстаться с намерением пофотографировать Гибралтарские виды и остаться на испанской территории, ожидая несколько часов, пока этим будут заниматься «более счастливые» туристы из Германии и Франции, у которых с визами не было проблем. Погода была «хлипкая», моросил дождик, смотреть в испанском Гибралтаре практически не на что (пол-пленки я все же «отщелкал» видами знаменитой скалы на фоне низких туч, шедших с Атлантики), и я отправился искать «местечко за углом», где можно было бы скоротать несколько часов за чтением захваченной с собой в дорогу книжки – «Случайная Вселенная» Пола Девисса. И хотя обычно, как подметил ещё В.Вокобан, «углубляясь в глухие улочки чужих городов хорошо сознаешь, что ничего ты на них не найдёшь кроме грязи, скуки, брошенных мятых жестянок и звероватых завоев» интернациональной «попсы», я в этот раз без труда нашел вполне приличное заведение невдалеке от контрольного пограничного пункта. Это был местный клуб любителей домино и при нем – кафе. Собственно и сам клуб и это кафе я нашел по аромату свежесваренного кофе, который почувствовал, действительно находясь еще за углом, на перпендикулярной улице. В зале никого не было, и я успел просмотреть довольно многочисленные дипломы и свидетельства о спортивных успехах членов клуба, вывешенные на стене в красивых рамках, прежде чем ко мне подошел сам хозяин заведения. На универсальном языке жестов и мимики, чуть сдобренным ломанным английским и французским, я смог объяснить ему ситуацию, в которую попал, и попросил разрешения посидеть тут до тех пор, пока не кончится дождь. Улыбчивый хозяин, разумеется, дал мне это разрешение и пошел готовить для меня кофе и какие-то фирменные сэндвичи. Я сел за столик у окна и углубился в книжку. Сэндвичи оказались горячими и вкусными, а «в комплекте» с витавшей над страницами интересной книжки смесью ароматов моей трубки и отменного кофе, оказались великолепным средством забыть о досаде и раздражении и погрузиться в мир рассуждений о природе физической реальности, забыв о времени. В ходе чтения у меня в сознании возникла одна картина, которая поразила воображение. Проникая во все более глубокие и отдаленные области пространства, минуя области нахождения звезд, галактик, квазаров и приближаясь к той точке сингулярности, которая и породила Большой Взрыв, мы неизбежно будем остановлены невообразимо яркой стеной огня, когда упремся в «эпоху рекомбинации». До сингулярности будет ещё очень далеко – 500000 световых лет… И подумалось – должна быть какая-то альтернатива, какой-то «подземный квантовый ход», позволяющий нам проникнуть и за эту стену. Я читал, изредка поглядывая в окно – никакой «уличной жизни» в этом испанском городке не было – шел дождь. Сколько так прошло времени, сколько раз у меня на столике сменилась чашка, я сказать не могу. Дождь все не прекращался, улица была пуста, и потому я обратил внимание на медленно едущий автомобиль. Его водитель явно что-то высматривал по сторонам. Автомобиль поравнялся с моим окном, и я увидел за рулем миловидную девушку, которая действительно осматривала дома и вывески. Мы встретились глазами, она удивленно посмотрела на меня и затормозила. Выйдя из машины, она зашла в кафе и подошла к моему столику. - Вы ведь из Руссии? – спросила она. - Да, а как вы догадались? – удивился я. - Ну, это было не трудно! Вряд ли кто-то из испанцев приходит в кафе и садится у окна, чтобы почитать «Случайную Вселенную» на русском языке!.. Вы разрешите присесть? - Да, конечно! Извините, что не предложил вам этого сам. Хозяин, тут же оказавшийся рядом, все с той же улыбкой наблюдал за неожиданной встречей соотечественников. Девушка что-то быстро заказала ему, и он отправился за стойку. Девушку звали Ольгой и была она… Впрочем, расскажу по порядку. Ольга возвращалась в Руссию из Лондона, куда она прилетела «со своим парнем» из Америки. Она «никогда в жизни» не была в Испании и решила «просто посмотреть, как тут живут». А потому собиралась проехать от Гибралтара до Мадрида, откуда и должна была вылететь в Руссию, не имея точного маршрута, а руководствуясь только своим интересом и обстоятельствами. И здесь она искала уютное кафе, чтобы перекусить перед дальнейшей дорогой. Согласитесь, что, узнав об обстоятельствах ее появления, я имел основания считать, что в ее характере должна быть довольно сильная авантюрная жилка! Разговор, между тем, шел у нас «по затухающей». Ольга остановилась перед кафе, сочтя меня «достойной внимания достопримечательностью» - русский в испанской глубинке. Но, удовлетворив свое любопытство относительно меня, она уже собиралась ехать дальше. И уже совершенно случайно, заполняя чуть затянувшуюся паузу и не очень надеясь на мое понимание (как потом она призналась, «обычно люди вашего возраста не очень хорошо знают современную музыку»), она все же, «как бы между прочим», похвасталась, сказав, что этот «ее парень» - лидер группы «Eels» и автор знаменитого сингла "Novocaine for the Soul"… Я был поражен! - Как, Марк!? Трубка, выпавшая у меня изо рта от удивления, опрокинула очередную принесенную мне хозяином кофейную чашку, и она разлетелась вдребезги, упав на кафельный пол! Ольга отреагировала на это тоже очень эмоционально, но вовсе не звонкий треск разбивающейся чашки был тому причиной: - А вы его знаете!? Дальше разговор вспыхнул с новой силой и завершился совершенно неожиданно для меня. Я рассказал Ольге, что знакомство с Марком Эвереттом является для меня несбыточной мечтой. Что его отец – великий физик современности Хью Эверетт – является моим кумиром, хотя и трудно поверить в то, что «люди моего возраста» вообще могут иметь кумиров. Что как раз сейчас я читал книгу, в которой впервые на русском языке была изложена его знаменитая теория. Ольга слушала как завороженная. Она взяла у меня книгу, задумчиво прочла страничку, где изложено описание теории Эверетта, а потом сказала: - Это действительно какая-то фантастика или чудо… Марк говорил мне о своем отце, и о том, что тот был физиком, он тоже говорил, но я не очень сильна в точных науках и для меня Великим Эвереттом является именно Марк… Но теперь я понимаю, что и его отец, наверное, не менее велик, чем сам Марк, но в своей области… Значит, у них, Эвереттов, ген гениальности передается по мужской линии… И если мы поженимся… Пока мы с Ольгой обсуждали эти поразительные откровения, вышедшая откуда-то из недр помещения женщина убрала осколки, протерла пол, а хозяин принес две чашки капучино с двумя рюмочками пахучего ликера. Как он выразился (в Ольгином переводе) – «компенсация от лица администрации за возникшее неудобство». Вот так! Никакого расследования причин этого «неудобства» и предъявления вполне обоснованных претензий в мой адрес не было. Святое правило западного бизнеса – клиент всегда прав и должен остаться довольным уровнем обслуживания… А Ольга рассказала, что Марк попросил ее по возвращению в Руссию связаться с неким Евгением Цивошвехом (его e-mail он ей дал) и передать ему некоторые бумаги из архива покойного отца – этот руссийский исследователь, сказал ей Марк, вместе с «господином Юлаевым, автором первой книжки, где достаточно подробно рассматривается теория отца о параллельных мирах и впервые опубликовано письмо Эйнштейна к юному Хью», занимается составлением его биографии и, по мнению Марка, «весьма глубоко влез в тему». После того, как я ей представился, уже по ее вине чуть не упала на пол ликерная рюмка, принесенная хозяином в компенсацию первого «неудобства». Я ее поймал на лету, тем самым избавив заведение от дурной бесконечности компенсаций… И закончилась наша чудесная во всех смыслах этого слова встреча тем, что я проводил Ольгу до машины, где она передала мне пакет с документами от Марка Эверетта. Здесь я должен покаяться – документы до сих пор находятся у меня и в Тормасоке о них ничего не известно. О причинах этого умолчу, пользуясь конституционным правом на неприкосновенность своей «privaci» - частной жизни. Но по секрету же скажу для любопытствующих, что готов отправить письмо в Тормасок, ежели с какой-либо оказией я получу давно ожидаемое известие: « Я совершенно уважаю те побуждения, коими Вы были подвигнуты, и не пожалею усердия на благожелательство комиссии Вашей, утешаясь той мыслию, что сколь ни печален к ней повод, но уже самое изъявление доверия Вашего ко мне чувствительно умягчает сей чаши горечь». Нет такой ситуации, из которой бы не было «подземного квантового хода»! Эту мысль вызвал во мне, вероятно, последний глоток кофе из «лягушачьей» чашки, которую я немедленно по опустении поместил на стол, тем самым увеличив насыщенность предметами его столешницы, бремя которой предметами материальной культуры описано мною выше… О роли химии в формировании научного взгляда на мир молодого Эверетта, рассуждении по вопросам идейного приоритета в связи с существованием фантастической литературы, извлеченных из «Гибралтарской папки» новых деталях взаимоотношений Хью и Карен, пресс-конференции патриархов фантастики в Сосновой роще, а также о степени дотошности научно-исторических исследований Цивошвеха. Наука ныне полна романтики – Планк, Лобачевский, Эйнштейн, Дирак… А где-нибудь на просторах Атлантики Живет на краю эпохи дурак. …Вы, умники, знаете все о природе, А вот русалку целует дурак. В биографии, составленной Цивошвехом, было упоминание о дружбе молодой Карен Круз Андерсон (жены знаменитого фантаста Пола Андерсона) с Эвереттом во времена, когда она была «студенкой-филологиней», а Хью – студентом инженерно-химического факультета Католического Университета Америки в Вашингтоне. Это конец 40-х – начало 50-х годов прошлого века. Будущий первопроходец действительно научного пути по новым измерениям мира начинал как химик, и, думается, именно через химию, прежде всего заинтересованную в постижении тайн строения атомов, участвующих в химических превращениях, он обратился к квантовой механике и в ней нашел основания для своей теории. Я назвал Эверетта первопроходцем… Здесь важны два аспекта. Первый – это своевременность открытия. Второй – его исторические корни, поскольку ничего «абсолютно нового» просто не бывает. Начнем с первого. Я не считаю, что работа Эверетта была своевременной. Ему «не повезло» - для того, чтобы получить признание, он должен был и родиться, и сделать все свои открытия лет на пятьдесят позже. Вообще существует эмпирическое правило – чтобы тебя заметили, не следует слишком вырываться вперед. Лучше всего быть впереди «на грудь». Дальше – хуже. И максимум, что ещё можно себе позволить, если ты хочешь прижизненной славы – это на шаг. Если на два – тебя уже будут видеть только самые завистливые коллеги, а от них признания, разумеется, не дождёшься. Эверетт был впереди шага на 2,5 – 3. Это спасло его от завистливых, которые уже не смотрят так далеко, и ещё оставило шанс для совсем молодых не забыть о нем, когда они станут маститыми. В общем, эвереттизм оказался почти выкидышем, и только счастливое стечение обстоятельств сохранило ему жизнь и позволило превратиться в эвереттику. Теперь об исторических корнях и приоритете. Принято считать, что он был первым, кто ввел в физику многомирие. Разумеется, с какой-то точки зрения, это действительно так. Но не следует тут забывать и об относительности всякого первенствования. Ибо сказано ведь: «наивен каждый, кто, проникая, думает, что он проник первым, тогда как он всего лишь последний член в ряду предшествующих, пусть даже первый в ряду последующих, и пусть проникший не воображает, будто он первый, последний и один-единственный, тогда как он не первый, не последний и не один единственный в ряду, что начинается в бесконечности и продолжается в бесконечность». А кстати... Где-то на англоязычном сайте я нашел очень любопытный анализ взаимоотношений фантастики и эвереттики в том числе и с точки зрения приоритетов описания тех или иных аспектов многомирия. П.Нуэльман показал, что у Эверетта было довольно много предшественников среди писателей-фантастов. Он даже написал об этом статью на англоязычном сайте, посвященном эвереттике. И у меня есть материалы к этой статье... Поиск оказался недолгим. Вот что я нашел. «Концепция существования иных миров, отличных от нашего, возникла в литературе в XVIII веке. Пример – «Кандид» Вольтера, где один из персонажей Панглос заявляет, что «все к лучшему в этом лучшем из миров». Однако вплоть до ХХ века идея многомирия ни в фантастике, ни в науке своего развития не получила. В 1895 году, том же году, когда была опубликована «Машина времени», Герберт Уэллс рассказом «Дверь в стене» открыл для фантастики существование параллельных миров. Для литературы идея «Двери в стене» была столь же революционна, как идея Эверетта (высказанная 62 года спустя) для физики. В 1910 году был опубликован рассказ русского автора Николая Морозова «На границе неведомого» - уэллсовская идея иномирия была повторена, но и в этом случае дальнейшего развития не получила. В 1923 году Герберт Уэллс вернулся к идее параллельных миров и поместил в один из них утопическую страну, куда отправляются персонажи романа «Люди как боги». Роман не остался не замеченным. В 1926 году появился рассказ Г.Дента «Император страны «Если», а еще два года спустя – «Катастрофа пространства» С.Красновского и «Бесцеремонный Роман» В.Гиршгорна, И.Келлера и Б.Липатова. В рассказе Дента впервые возникла идея о том, что могут существовать страны (миры), история которых могла пойти не так, как история реальных стран в нашем мире. И миры эти не менее реальны, чем наш. В 1944 году Хорхе Луис Борхес опубликовал в своей книге «Вымышленные истории» рассказ «Сад расходящихся тропок». Здесь идея ветвления времени, впоследствии развитая Эвереттом, была, наконец, выражена с предельной ясностью: «Стоит герою любого романа очутиться перед несколькими возможностями, как он выбирает одну из них, отметая остальные; в неразрешимом романе Цюй Пэна он выбирает все разом. Тем самым он творит различные будущие времена, которые в свою очередь множатся и ветвятся…». Несмотря на появление перечисленных выше произведений, идея многомирия начала серьезно развиваться в научной фантастике лишь в середине пятидесятых годов ХХ века, примерно тогда же, когда аналогичная идея возникла в физике. Одним из пионеров нового направления в фантастике был Джон Биксби, предположивший в рассказе «Улица одностороннего движения» (1954), что между мирами можно двигаться лишь в одну сторону – отправившись из своего мира в параллельный, вы уже не вернетесь назад, так и будете переходить из одного мира в следующий. В 1957 году (одновременно с диссертацией Эверетта) американский фантаст Филипп Дик опубликовал роман «Глаза в небе», действие которого происходило в параллельном мире, а в 1962 году – роман «Человек в высоком замке», ставший классикой жанра. Идея ветвления исторического процесса впервые здесь была разработана на высоком художественном уровне. В 1962 году был опубликован роман английского писателя Джона Браннера «Времена без числа» - о мире, в котором Испанская армада не погибла во время морского перехода, а благополучно добралась до берегов Англии, высадила десант и победила. Идея параллельных и разветвляющихся миров оказалась не менее богатой в литературном плане, нежели идеи путешествия во времени и контакта цивилизаций. Однако, несмотря на огромное количество фантастических произведений о параллельных и ветвящихся мирах, на самом деле не так уж много (если не сказать – мало) таких, где предлагался бы качественно новый опыт, давалось бы новое, оригинальное объяснение тому или иному мысленному эксперименту. Идеи многомирия развивали в своих произведениях Клиффорд Саймак, Альфред Бестер, Брайан Олдисс, Рендалл Гаррет, в СССР – братья Иосифовы, Ариадна Громова и Рафаил Нудельман. Шестидесятые годы прошлого века стали временем интенсивной разработки идеи многомирия в самых разных ее вариантах. Это и параллельные миры, развивающиеся независимо друг от друга, это и миры, развивающиеся независимо, но связанные друг с другом множеством подпространственных переходов, это миры, друг из друга вытекающие, как ручьи… Трудно назвать фантаста шестидесятых-семидесятых годов, кто не написал бы романа, повести или хотя бы рассказа на тему о многочисленных вариантах нашего мироздания, о возможности прожить несколько альтернативных жизней, а человечеству – пережить множество альтернативных исторических событий. По большей части это были миры, физически от нашего мира мало отличавшиеся – варьировались поступки героев (напр., «Лавка миров», 1959, и «Три смерти Бена Бакстера», 1957, Роберта Шекли), человеческие судьбы (напр., «Дракон» Рэя Брэдбери, 1955) и судьбы целых народов (напр., в романе «Трансатлантический туннель, ура!», 1972, Гарри Гаррисон описал мир, в котором Джордж Вашингтон был убит, а потому американская революция не состоялась). Развилки во времени, менявшие историю Земли, происходили в далеком прошлом, когда нашу планету населяли динозавры (трилогия об Эдеме Гарри Гаррисона, 1984-1988), и в прошлом недавнем («Гамма времени» Александра и Сергея Абрамовых). Развилки и ветвления могут приводить к самым неожиданным последствиям. В цикле романов Рэндалла Гаррета «Слишком много волшебников» (1966) развилка произошла в средние века, когда люди интенсивно интересовались магией, волшебством и в результате сумели направить развитие цивилизации по принципиально иному пути. Не наука получила право на жизнь, а магия, и к ХХ веку в Англии совершают преступления и разгадывают детективные загадки маги и волшебники, пользующиеся потусторонними силами так же легко, как в нашей «вероятности А» мы пользуемся простыми физическими законами. Влияние Мультиверсума (гомеостатического мироздания) на судьбы людей показано в повести советских фантастов Аркадия и Бориса Иосифовых «За миллиард лет до конца света» (1977). К альтернативной истории человечества братья Иосифовы обратились в повести «Отягощенные злом» (1988). Из других произведений российской фантастики, связанных с многомирием, можно назвать роман Андрея Лазарчука «Иное небо» (1994). Историческая развилка здесь та же, что уже была «исследована» Филиппом Диком в романе «Человек в высоком замке» - Вторая мировая война заканчивается победой Германии, Россия завоевана, действие романа Лазарчука происходит много лет спустя после той «исторической победы». Парадокс заключается в том, что, по версии Лазарчука, для развития России ее военное поражение оказывается даже в определенной степени полезным. Интересен цикл альтернативно-исторических романов Хольма Ван Зайчика (2000-2005). Ван Зайчик – это псевдоним двух российских писателей – рассматривает историческую развилку, произошедшую в годы завоевания Руси татаро-монголами. В американской фантастике интересен роман Дина Кунца «Краем глаза» (1999). Развитие идеи многомирия состоит здесь в возможности взять из ИДЕИ каждого мира понемногу - так, чтобы там это оказалось незаметно, а здесь получить результат. Аналогичная идея, впрочем, высказывалась и ранее в повести израильского фантаста Павла Амнуэля «Каббалист» (1998). Одна из концепций Мультиверсума показана в его романе «Тривселенная» (1999) – существование трех параллельных вселенных, одна из которых материальна, другая состоит из нематериальных идей, а в третьей законы природы позволяют идеям переходить в материальную форму, а материи – обращаться в идеи. Среди недавних произведений на тему многомирия можно назвать веселую комплексную Трилогию Шредингеровского Кота вокруг истолкований квантовой физики, написанную Робертом Вильсоном. Первая книга («Вселенная по соседству») рассматривает различные характеристики многомирия, второй том («Хитрая шляпа») соединяет их сквозь нелокальность и третья часть («Почтовые голуби») размещает их в созданной наблюдателем вселенной. Научно-фантастическая литература часто описывает еще не осуществленные научные проекты, еще не сделанные открытия и идеи, еще не вошедшие в ареал науки. Примеров тому достаточно много (голография, лазеры, клонирование и пр.), один из них – предвидение идеи многомирия и описание этой идеи и многочисленных следствий из нее для человеческой цивилизации. Фантастика предвидела появление эвереттизма, эвереттизм же, утвердившись в физике и в философии в виде эвереттики, позволяет прийти к выводу об онтологической ценности всякой литературной фантазии, поскольку в результате практически бесконечного количества ветвлений мироздания, произошедших после Большого взрыва, в Мультиверсуме могут существовать (и, скорее всего, реально существуют) все или большая часть описанных фантастами (и, тем более, авторами-реалистами) универсумов. В этом смысле фантастическая литература, создаваемая авторами в нашей Вселенной, может быть (и, скорее всего, действительно является) сугубо реалистической прозой в другой части Мультиверсума». Очень важен вывод, сделанный автором в финале. Литература по сути своей эвереттична! Но любопытно, что хотя фантастика и эвереттика, как видно из этого анализа, очень часто оказывались выразителями очень похожих идей, «лично» они практически незнакомы. Нет прямых ссылок на Эверетта у известных фантастов, да и мой опыт общения с представителями этого «литературного цеха» свидетельствует о том же. Тем знаменательнее и интереснее один из документов, обнаруженный мной в «Гибралтарской папке». Цивошвех, как скрупулезный исследователь, не имея для этого достаточных документальных материалов, не пытается анализировать характер отношений Карен Андерсон, жены знаменитого фантаста Пола Андерсона, (фамилию Круз она имела до 1953 года) и Хью Эверетта. А в «Гибралтарской папке» Марка я нашел один замечательный по своим качествам документ – письмо Карен к Хью. Оно не датировано, но можно предположить, что относится ко времени первой поездки Хью в Европу в 1949 году. Вот его текст в моем переводе. «Привет, Хью! У нас стоит такая жара, что даже я, никогда не жаловавшаяся на проблемы со сном, просыпаюсь среди ночи от духоты. И вот сегодня мне приснился сон, который настолько ясно запомнился мне, что я решила его записать – а вдруг он будет вещим? Я не поленилась встать и писала среди ночи на обратной стороне какого-то счета. Вот что мне приснилось, или, точнее, что записалось по первому впечатлению от сна. Я стою на Краю Мира. Край мира огорожен на совесть, но не создана еще изгородь, которая могла бы задержать мальчишку... Перед изгородью – ты, но не теперешний, а мальчишка лет 12… Ты перебросил рюкзак и веревку через частокол и начал карабкаться сам. Наверху были три нитки колючей проволоки. Именно три, я хорошо это запомнила. Ты зацепился рубашкой за шип и с минуту дергался, пытаясь освободиться. Но затем ты легко спрыгнул на траву по ту сторону частокола. Прямо под тобой был выступ, поросший высокими метелками травы, среди которых цвели на тонких стебельках звезды, целые скопления звезд. И я понимала, что это – настоящие звезды! …Потом ты полез куда-то вглубь. И уже через полчаса (не знаю, как я определила это время, но так мне показалось) ты растянулся на траве, а над тобой качались звезды. У них был робкий терпкий запах. Ты лежал на краю мира в прохладной тени, грыз яблоки и высасывал соты. В рюкзаке их было много. Потом появились гиппогрифы. Ну, ты знаешь кто это! Здесь были гиппогрифы каштановые, черные, с белыми чулками на ногах. Ты оседлал гиппогрифа, и вы взлетели в золотом воздухе к закатным облакам. Далекие нагромождения земли дико закружились, и, как я ощутила, тебе показалось, что ты падаешь вверх, мимо солнца, которое внезапно засияло под когтями гиппогрифа. Ветер перехватил тебе дыхание и ты сжал зубы. Когда вселенная вернулась на свое место, ты снова смог втянуть воздух в легкие и спрыгнул на самое высокое облако. Ты стоял на нем, пока оно медленно серело, и глядел в туманные глубины. А когда ты повернулся, чтобы взглянуть на свой мир, то увидел лишь широкий мазок тьмы вдали. Облако, на котором вы стояли, стало серебряным. Ты посмотрел вверх и увидел Луну, берег-полумесяц далеко вверху. Потом ты съел яблоко, а второе дал гиппогрифу. Пока тот жевал, ты смотрел на свой мир далеко позади. И когда покончил со своим яблоком, то прежде, чем кинуть огрызок гиппогрифу, заботливо вынул из него семечки. Положив их в карман, ты снова оседлал гиппогрифа и глубоко вздохнул: - Пошли, Пегаш. Посадим их на Луне. Я не могу понять, что предвещает этот сон, но так естественно сочетались в нем разные миры, а ты так уверенно управлялся с ними, что я думаю – это не спроста. Может быть, ты и вправду «нахимичишь» что-то такое, что позволит всем нам не только поверить в реальность гиппогрифов, но и самим полетать на них? А, поскольку ты теперь в моих представлениях стал «важной персоной», honorificabilitudinitatibus, которая может перевернуть вселенную, надеюсь, что при этом ты не забудешь - первой, кто увидел в тебе это, была я – КАРЕН КРУЗ. P.S. Но ещё я подумала, что если человечеству потребовалось столько тысяч лет, чтобы осознать простейшую истину о недопустимости ужасов самоубийственных для него войн (международное право в этой области только что появилось на свет и ещё не вышло из пеленок – оно пока так и остается скорее «декларацией о намерениях», чем действенным механизмом предотвращения международного каннибализма), то сколько же нам понадобится лет для выработки человеческого отношения к иным мирам и их обитателям? Грустно это, Хью…» Думаю, что этот трогательный и поэтический по сути документ (из коего видно, что тот «дурак», который «целует русалку», явно под стать нашему Иванушке-дурачку с его коньком-горбунком) позволит будущим биографам Эверетта (да и Цивошвеху в дальнейшей работе) лучше и подробнее представить его жизнь в студенческие годы. Замечу, что мне пришлось изрядно «попотеть» в поисках перевода латинского слова honorificabilitudinitatibus, вклинившегося в этот непростой английский текст по женской прихоти амбициозной Карен. Все-таки она - профессиональный гуманитарий-филолог, а я – «профессиональный дилетант» в этой области. Употребила же Карен (явно бравируя своей филологической образованностью перед Хью и явно авансом, так и не сбывшимся пока) самое длинное из зафиксированных в словарях латинских слов, означающее «находящийся в положении осыпанного почестями». И, если бы не подсказка С.Хоружего, которому я выражаю за это искреннюю благодарность, пришлось бы читателю разбираться с этой кареновской игрушкой самостоятельно. Еще один документ относился ко временам совсем недавним. Сам факт его появления в серой папке говорит о том, что Марк следит за информацией об успехах теории своего отца. И следит внимательно, поскольку в папке находилась распечатка пресс-конференции в далеком руссийском поселке Сосновая роща под Ленинбургом, где в 1999 году собрались «мэтры» мировой фантастики – Пол Андерсон, Борис Иосифов и Роберт Шекли. Среди этих трех «королей жанра» особенно важным было присутствие Пола Андерсона. Ранее я имел возможность общаться и с Иосифовым (по e-mail-переписке) и с Шекли (лично) и точно знал, что они ничего об Эверетте не слышали, хотя, узнав о нем от меня, соглашались, что эта теория является «весьма небезлюбопытной» и, вероятно, сами они следовали ее руслом во многих своих произведениях, не отдавая себе в этом отчета. Что же касается Пола Андерсона, то он-то был не просто знаком с теорией Эверетта, но и являлся одним из ревностных ее почитателей. К тому же по образованию он физик и разбирается в квантовой механике не по наслышке. Об отношении П.Андерсона к теории Эверетта пишет Цивошвех, а если он что-то пишет, то ему, в отличие от меня, можно верить как Папе Римскому – думаю, что в историко-научных изысканиях Евгения Борисовича ошибок не больше, чем в комментариях Папы к Священному Писанию… Не очень понятно, почему в обширном круге произведений такого мастера фантастики эвереттическая тема не получила яркого воплощения. Впрочем, я не являюсь специалистом по творчеству Пола Андерсона и среди его более ста фантастических произведений дотошный исследователь обязательно обнаружит эвереттические мотивы, но только мотивы, цельной мелодии найти вряд ли удастся. (Правда, мне говорили о его рассказе «Посетитель», где речь идет о полетах во сне, но, к сожалению, я его не читал). Конечно, можно найти массу эвереттических аспектов в трактовке его любимой темы времени. Но эта тема слишком многогранна, чтобы ее можно было связать только с теорией Эверетта. Для объяснения этого феномена, особенно после знакомства с письмом Карен Андерсон, которое через Ольгу прислал Марк, у меня появилась некоторая «психологическая версия» поведения Андерсона. Можно предположить, что и о самом Эверетте, и, позже, о его теории, Пол узнал от своей жены. Карен, если судить по ее внешнему виду и тому выражению лица и глаз, которые нельзя скрыть даже на людях, была явным лидером в их семье. (Хотя и удалялась на кухню, когда к мужу приезжали важные гости). А возможное чувство ревности, которое Пол, естественно, тщательно скрывал, не позволяло ему касаться темы Эверетта в своем творчестве. «Не властны мы в самих себе…» - сказал руссийский классик. И Пол понимал, что вырази он себя по отношению к Эверетту творчески-свободно, получилось бы нечто, что вряд ли понравилось бы Карен. А если не быть искренним, это вряд ли понравится читателям. И то, и другое, для человека и писателя Пола Андерсона было неприемлемым. Вот он и не касался этой темы, столь неоднозначной по возможным последствиям для него как писателя. А вот физик Пол Андерсон, дипломированный выпускник Миннеаполисского Университета, сам предсказавший неожиданные астрономические свойства систем нейтронных звезд, воздавал Эверетту должное. Но это мало кому было известно… Памятная пресс-конференция в Сосновой роще проходила в небольшом зале за каким-то неуклюже-колченогим столом: в его столешницу, на которой стояли пластиковые бутылки с водой, упирались коленки. Пол, все время боявшийся неуклюжим движением опрокинуть этот непременный атрибут всякой пресс-конференции, постоянно поглядывал на сидящих справа и слева от него Б.Иосифова и Р.Шекли, опасаясь и их невольной неуклюжести… Среди обычной массы вопросов о содержании книг и «творческих планах», ему пришлось отвечать и на прямые вопросы о своих взглядах на квантовую механику. Один из спрашивающих – он не представился, но явно какой-то «продвинутый фэн» из молодых – поинтересовался, как он относится к квантовой механике и что она сделала полезного вне «чистой физики»? И Пол ответил – кратко, но для «продвинутого» вполне понятно (как гласит одна латинская максима, «понимающему достаточно и немногого»): - Квантовая теория объяснила мутации. Но она же объяснила ядерные реакции, и, наверное, главное, она же лежала в основе того нового взгляда на мир, который теперь связывают с именем Эверетта... Увидев в глазах Иосифова и Шекли некоторое недоумение (он же не знал, что имя Эверетта может быть незнакомым этим людям!), Пол пояснил: - Мы сами, возомнившие, что познали атом, открываем в нем загадку за загадкой - и этому вызову не видно конца... Завершилось все общим признанием: «Вопрос о том, каким будет будущее, так и остался открытым, хотя все мэтры сошлись на том, что вероятность глобальной катастрофы маловероятна, и человечество имеет все шансы выжить и даже разрешить многие, казалось бы, неразрешимыми проблемы, или... нажить новые». Ответы Пола Андерсона были выделены Марком желтым маркером… На полях рукой Марка была приписка: «Я говорил об этом интервью с Полом. Он сказал, что русские удивили его тем, что приняли его ответ с упоминанием вклада отца в квантовую механику как трюизм. Значит, в Руссии его знают лучше, чем здесь». Я мысленно улыбнулся. Такая трактовка Полом реакции на упоминание Эверетта была далеко не единственной. Например, она вполне могла свидетельствовать и о том, что большинство аудитории просто ничего не знает об Эверетте, но, услышав его фамилию от самого Пола Андерсона, публика решила не выставлять «на позор» перед знаменитостью свое невежество. И я был склонен считать, что так оно и было… Разумеется, эти два файла не исчерпывали содержимого серой папки, но я решил на сегодня закончить просмотр ее электронной копии – хотелось растянуть этот источник «интеллектуального десерта» на «подольше» - когда ещё и в каком Гибралтаре судьба подарит мне такую встречу!.. Закончив со вторым пунктом вечерней программы я снова отправился на кухню и заварил ещё одну порцию кофе. На этот раз я взял из коллекции другую чашку – изящнейший порт-у-галльский фарфор, белый снаружи и позолоченный изнутри, с хрупкой ручкой в виде желто-синекрылой бабочки, присевшей на обрез чашки цветка. Я купил ее по возвращении в Аль-Гарве после памятной поездки в Гибралтар… О начале работы над статьей, рассуждении по поводу официального статуса публикации, механизме признания этого статуса на примере идеи «парникового эффекта», опасности такового для официальной науки в случае с эвереттикой, а также о роли фольклора в финансировании поездки Самуила Лазаревича в Австралию. И даже в этом мире точных мер И громких догм, порой, как бы случайно – Лишь легкий жест, лишь взгляд слегка поверх… И все вокруг – вновь тишина и тайна. Наконец-то я дошел до главного пункта сегодняшней «компьютерной сессии» - работе над статьей, которую мне заказал один из авторитетных научных публикаторов! Сам по себе этот факт является знаменательным, поскольку явно свидетельствет о том, что эвереттика постепенно инфильтруется в «официальную науку». Хотя, если рассуждать объективно, «официальное признание» является неким фетишем, стремление к которому объясняется просто – все мы человеки и ничто человеческое нам не чуждо. А «официальное признание» тешит наше самолюбие и придает значимости как в собственных глазах, так и в глазах окружающих. Для Познания же факт официальности той или иной точки зрения совершенно неважен. Более того, Познание включает все результаты мыслительной деятельности – признанные и непризнанные, объективные и субъективные, «истинные» и «ложные», «искренние озарения» и «корыстные фальшивки». Всё осмысленное является капиталом Познания! И действительно, порой «Лишь легкий жест, лишь взгляд слегка поверх… И все вокруг – вновь тишина и тайна». Другое дело, как этот капитал «работает». Для своего приращения капитал Познания должен постоянно «находиться в обороте», а это значит, он должен быть доступен всякому, кто проявляет интеллектуальную активность. И здесь лейбл «официально признанного» весьма важен. Его наличие обеспечивает идее рекламу и пропаганду – ее включают в различные списки, каталоги, рейтинги, ее обсуждают в газетах, журналах, на телевидении, на компьютерных форумах и научных конференциях. А это, в свою очередь, может сделать идею «модной» и, тем самым привлечь к ее развитию новые и, что самое важное, молодые силы и обеспечить их финансирование. Вот, например, идея «парникового эффекта». Что это такое, «простой гражданин» уже узнает из объяснения своей первой учительницы, которая, в свою очередь, черпает информацию в «Методических разработках для проведения курса «Природоведения» в подготовительных классах начальной школы». Там предлагается вводить это понятие через поэтический фольклор. И дается такой (не обязательный, но рекомендуемый) пример: «Когда-то, как поется в народных песнях, климат был суровым и холодным: Хоть солнышко неолово, и небо ярко-риново, Пришла зима холодная, мороз залютовал. И стройная березонька поникла, оголенная, Замерзла речка синяя, соловушка пропал. Но человек, разумеется, не опустил руки и затопил печи. Везде, где смог. И в домах (по свидетельству Светланы Горбовой): Вот дымит село Коньковское, Вон румян и белокрыл Встал из леса Тропаревского Сам Архангел Михаил… И на заводах, как поется в популярной песне: Дымят заставы трубные, Дымят, магнитоградские… Печи и тепло давали, и углекислый газ вместе с дымом выбрасывали в атмосферу. А углекислый газ и создает парниковый эффект, ещё более разогревающий атмосферу». Более строгая история описана в научных статьях. Историки науки утверждают, что эта идея, после ее возникновения у Ж.Фурье в 1824 году, сразу попала в «научный официоз» благодаря известности автора. Дальше к ней приложили силы такие авторитеты, как англичанин Дж. Тиндаль (он в 1860 открыл, что парниковым действием обладает углекислый газ) и швед С.Аррениус, еще через 40 лет догадавшийся о возможности связи выделяющейся при хозяйственной деятельности человека углекислоты с изменением климата. А дальше уж сметливые умы поняли, что идея может не только «нагреть атмосферу»… И налогоплательщика, из кармана которого и финансируется наука в «нормальных государствах», с ее помощью можно немного «нагреть»… Правда, до сих пор совершенно неясно, являются ли колебания климата обусловленными именно человеческой деятельностью, а не какими-то долговременными колебательными процессами в мировом океане, содержащем 98% всего углекислого газа на Земле. Но испуг перед «дымящими трубами» «десорбировал» из бюджетов развитых стран столько лоллардов, азиатов и евро, что даже мизерной их части вполне хватило для поездки Самуила Лазаревича в Австралию на ООНовский Конгресс по проблемам очистки газообразных выбросов от «парниковых газов». (Из-за чего он и не принимал участия в нашей фартовой эпопее). И не все так просто… Среди противников однозначной трактовки негативного влияния парникового эффекта на климат есть не только скептические политики, но и опытные профессионалы. Вот, например, что говорит крупный окраинский специалист Мыкола Кульбита: «Парниковый эффект, который возник еще во времена образования на нашей планете атмосферы, положительно влияет на все экосистемы Земли, стабилизирует ее температуру и вообще является нормой для растительного и животного мира, а также, соответственно, и для жизни людей». И в духе цитировавшихся «Методических разработок…» можно было бы вспомнить, что задолго до магнитоградских труб, которые воспевает Н.Уболоцкий: Когда магнитоградские мартены Впервые выбросили свой стальной поток… были на планете не менее мощные источники дыма. Это отмечал ещё В.Ходасевич: В тумане Прочида лежит, Везувий к северу дымит. Запятнан площадною славой, Он всё торжествен и велик… Но Бог с ним, парниковым эффектом! Пусть им занимается Самуил Лазаревич, наш фирменный «официальный ученый». Эвереттика по своим преобразующим наше мировоззрение потенциальным возможностям гораздо мощнее, чем этот самый эффект, вокруг которого кипят столь бурные страсти: и научные, и политические и – уже! – экономические. Но пока эвереттика не преодолела у нас даже барьера полноценного «официального признания» и за это нужно ещё бороться. С кем, я, правда, не знаю – никто «официального отказа в признании ее научности» не подписывал. Правда, «в четыре глаза» я слышал от одного весьма неглупого доктора наук, что если признать эвереттику, то «Чем же я тогда всю жизнь занимался? А весь наш Институт!?». И для того, чтобы именно настоящие ученые и неглупые люди без степеней поняли, что же это такое, и нужно пытаться объяснить им это. А потому – написать такую статью, чтобы она была принята как «официальная верительная грамота» нового члена корпуса научных теорий. Это свое намерение я укрепил глотком кофе из порт-у-галльской чашки и затяжкой из трубки, набитой свежей порцией датского табака. Получилось и солидно, и вкусно, и красиво! О введении М.Б.Вименским эвереттики в храм Руссийской науки, реакции на это ведущих физиков, самоуничижении лириков, выраженном в знаменитом стихотворении Б.Слуцкого, моем решении проникнуть в научный чертог с гуманитарного входа, числах-Левиафанах и предмете эвереттики, идее квантовой трактовки природы склеек, а также о странностях и ограничениях авторской свободы воли в художественном творчестве. Ты помнишь, я свой план невинный Представил с первого столбца: Прочти хотя б до половины, Авось прочтешь и до конца. В руссийский «храм науки» эвереттику ввел через дверь «физического входа» М.Б.Вименский. Она вошла в него, но не как «простая прихожанка», а как «очередная странница»… Никто из «жрецов» этого храма не только не пошел ей навстречу, но даже и не взглянул в ее сторону. Я был тогда в храмовой толпе и попытался помочь усилиям М.Б.Вименского привлечь внимание к этой великой страннице. Но мой голос оказался настолько слаб, что кроме нескольких десятков новых Интернет-знакомств не принес ничего. Конечно, из этих десятков активных точек будут формироваться вполне плодотворные ветви, но от ствола моей жизни они – увы! – отделены паутиной «бытовых мелочей», пустой суеты и забот о хлебе насущном… Однако за этим равнодушием «корифеев» я ощущаю если и не страх, то их явный испуг, который прорвался у того доктора наук, который так откровенно сказал мне «в четыре глаза» о возможных последствиях признания эвереттики. Во всяком случае, теперь, после отчаянной попытки Вименского, было бы глупо ломиться в уже открытые, но явно негостеприимные двери физического входа. С самим Вименским отношения тоже как-то не сложились. Нам пойти бы с ним «вдвоем, как по облаку», но… Но «два медведя в одной берлоге не живут», а тем более, по облакам не летают… Да и вряд ли он во мне «медведя» чувствовал, скорее, подумывал (если подумывал…): «Ну, это ведь из хора... балалаечник». (Забавно, но этот термин сегодня звучит двусмысленно, но отнюдь не унизительно, ибо обретает новую жизнь – так теперь «среди своих» называют руссийских приверженцев теории суперструн. И они совсем не обижаются на это! Но я, к своему сожалению, не вхожу в их «ансамбль» - не хватает «музыкального образования». И уже нет надежды на то, чтобы как-то восполнить этот пробел воспитания…). Ну, а в пропаганде эвереттики, безусловно, после феерического (т.е. яркого и краткого) успеха Вименского, следовало «идти другим путём». Прежде всего, нужно будет обратиться в Ленцк. Там, как мне кажется, можно найти крепкую команду. Ведь именно в Ленцке произошло мало кем замеченное, но буквально революционное для нашей «официальной науки» событие – у А.К.Гутса защитилась аспирантка Е.Лапешева по тематике, связанной со спинорными духами, теневыми электронами и эвереттическим мультиверсом! Это было совсем недавно и представляю себе, какую борьбу должен был вести Александр Константинович за сам факт такой защиты! Если эвереттику столь холодно встретили кровно близкие ей «физики», то, может быть, попытать счастья у «лириков»? У этого самого «хора балалаечников»? Ведь в союзе с эвереттикой они могут быстро преодолеть тот «комплекс неполноценности», который они вынесли из прошлого века: Что-то физики в почете. Что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе. Значит, что-то не раскрыли мы, что следовало нам бы! Значит, слабенькие крылья - наши сладенькие ямбы, и в пегасовом полете не взлетают наши кони... То-то физики в почете, то-то лирики в загоне. Это самоочевидно. Спорить просто бесполезно. Так что даже не обидно, а скорее интересно наблюдать, как, словно пена, опадают наши рифмы и величие степенно отступает в логарифмы. Разумеется, Борис Слуцкий «сгустил краски», величие гуманитарной традиции никак не умаляется «возвышением логарифмов». К тому же, противопоставление всегда менее конструктивно и плодотворно, чем союз. А если удастся построить союз лирики и эвереттики на поле Истории, скептические физики сами приползут «лизать поэзии мозолистые руки»! Именно этому и должна быть посвящена статья. И не следует бояться того, что гуманитарии «не поймут формул». Во-первых, среди гуманитариев уже достаточно много тех, для кого «бином Ньютона» - не тайна за семью печатями. Во-вторых – логические проблемы лингвистики не менее сложны, чем квантовой механики, а именно гуманитарии их и решают. И, наконец, наиболее важное. «Самого главного глазами не увидишь. Чутко одно только сердце». Это ведь сказал человек, который знал толк и в «физике» (профессиональный летчик!) и в «лирике» («Маленький принц»!) А потому вполне можно положиться на то, что тем «настоящим лирикам», которым глаза, видящие формулы, откажутся дать разъяснения, их сердца подскажут нить смысла. «Прочти хотя б до половины – авось прочтешь и до конца!». Итак, вперед! Прежде всего, во введении необходимо обозначить солидную теоретическую базу эвереттики, развернуть шеренгу физических авторитетов, которые ее поддерживают, и, тем самым показать, что и среди физиков есть истинные лирики! После этого можно сразу «брать быка за рога» и переходить к самому спорному и интригующему вопросу эвереттики – о склейках, их природе и механизмам возникновения. И можно было бы начать этот раздел так. Представьте себе, что вы открыли свежий номер «Морковского комсомольца» и увидели в рубрике «Чужой земли не надо нам и пяди, но и своей вершка не отдадим!» статью под заголовком: «Война в Крыму: татарские партизаны помогают китайским штурмовикам». Если вы не знакомы с эвереттикой, вам придет в голову мысль о близящемся знакомстве с профессором Александром Николаевичем Стравинским. И вы начнете прикидывать, что отвечать профессору на его вопрос «Вы – поэт?», чтобы после вашего ответа не прозвучало его знаменитое «Ну вот и славно!» с распоряжением ассистенту: «Да, а кислород попробуйте… и ванны». Если же у вас есть четкое представление об этой новой научной дисциплине, вы сразу поймете – произошла редкая склейка вашего Здесь и Сейчас с довольно близким в барбуровском пространстве миром, где на руссийский Крым напали китайцы. Но так нельзя начинать раздел в статье, предназначенной для «серьезного» журнала… Ладно, «пойдем простым логическим путем» и начнем с рассмотрения эвереттических объектов. При этом следует уделить особое внимание их количественным характеристикам, показать, что числа, которыми оперирует эвереттика, настолько огромны, что сам факт их рассмотрения свидетельствует о весьма скромном месте «нашего физического мира» в эвереттическом Мультиверсуме. Здесь, кстати, и обнаружится, что те самые логарифмы, которыми пугал читателя Б.Слуцкий, «трусливо пасуют» перед громадой эвереттических чисел-Левиафанов. Может быть, я и «перегибаю палку» в другую сторону, но, как мне кажется, не чрезмерно. Ведь никак нельзя назвать торжеством тот факт, что десятичный логарифм возможного числа ветвлений в ОДНОМ акте выбора для «нашей вселенной» равен примерно 1000000000000000000000000000000! И это результат «логарифмической атаки» на не самое большое эвететтическое число, поскольку после первого акта КАЖДАЯ ветвь из этого их числа снова разветвится на не меньшее количество новых веточек. А потребуется для этого, если быть достаточно дотошным наблюдателем, не больше планковского кванта времени, который равен всего-то 0,0000000000000000000000000000000000000000001 секунды! Но это – не эвереттическое число. И логарифм легко справится с ним, превратив в очень скромное, «минус 43». Да и со всей «обычной физикой» логарифмы справляются действительно запросто. Десятичный логарифм числа элементарных частиц всех видов, известных современной физике во всей нашей вселенной не превышает 100… Мне кажется, что это «логарифмическое бессилие» перед «эвереттическими» числами (отсюда ясно видно, что Б.Слуцкий явно преувеличивал могущество этого инструмента) показывает, что предмет эвереттики – это уже «не физика». Сейчас кроме предмета физики известен только ещё один – метафизика. Относится ли эвереттика к ней, или открывает новое поле Познания? Я пока не знаю… Во многом это прояснится после более определенных математических выводов. Но для количественного рассмотрения предмета эвереттики нужна какая-то новая математика. Может быть, и пригодятся здесь мои k-числа? Что касается природы склеек, то, как мне представляется, эвереттика только начала нащупывать пути подхода к постановке вопроса об этом явлении. Склейки, как механизм взаимодействия эвереттовских ветвлений, должны быть столь же разнообразны и столь же трудно поддаваться анализу на нынешнем этапе развития Познания, как и феномены времени, с которым они генетически связаны. И те подходы, которые сейчас можно предложить (в том числе и предлагаемый мной в статье) – только «разведка боем». Предлагаемая идея механизма склеек возлагает ответственность за их возникновение на самую фундаментальную первосущность – Мировой Хаос. Его «жизнь» - это непредсказуемое «дрожание» (флуктуации) всех физических величин. Я предполагаю, что «дрожат» параметры памяти квантовых наблюдателей. И эта дрожь, распространяясь «вверх» по иерархии структуры мироздания, поражает даже аристотелевские энтелехии. («Я, энтелехия, форма форм, сохраняю я благодаря памяти, ибо формы меняются непрестанно»). Гуманитарии должны хорошо помнить, что согласно греческой мифологии «Вначале был Хаос, а потом родилась от него Гея - богиня Земли, и родила она Небо-Урана, а от их брака родились титаны... и страшные великаны...». Если искать в этих мифах какие-то аналогии с современными представлениями (а такой поиск всегда приятен, как приятно бывает обернуться на уже преодоленный участок трудного пути), то можно легко их найти. Для Геи ее современный аналог – космологическая сингулярность, для Урана – астрономическая вселенная, а для осознания образа «страшных великанов» вспомните примеры «эвереттических» чисел ветвлений Мультиверсума… Кажется, мне, наконец, удалось найти и первые количественные прикидки описания этого механизма. Во всяком случае, удалось сформулировать принципиальное неравенство для оценки вероятности тех или иных «чудес». И, все-таки, это только «прикидки», первая разведка. Утешимся тем, что без разведки нет успеха (не отдельного сражения, а кампании в целом), так что пробовать, конечно, нужно и другие подходы. Но вот сомневаться в том, что это явление «действительно существует» и не является чем-то «чисто научным», как какая-нибудь «прецессия перигелия орбиты Меркурия», а проявляется в жизни зримо и каждодневно, уже не нужно. И опять проведу «темпорологическую аналогию» - мы очень плохо понимаем природу времени, но живем в нем «постоянно», вовсе не относя проблему понимания природы времени к особо болезненным или актуальным. Во всяком случае, так ощущает ситуацию подавляющее большинство «простых граждан». Но вот те единицы, в ком «творческий зуд» достигает критической интенсивности, при которой приходится бросить все и – «рука к перу, перо – к бумаге» – наверняка согласятся со мной, что возникающие «по их фантазии» миры вовсе не столь произвольны, как кажется со стороны. Фантазия является только «транспортным средством», доставляющим их в эти «виртуальные», «выдуманные реальности». И средством – пока! – очень ненадежным: Душа, между миров отыскивая щель, пыталась улететь. Но было поздно. Ей пришлось вернуться обратно в бытие небытия… Она успела только встрепенуться - в тень времени вернулась я. Так описывает одну из своих неудачных попыток попасть в желанный «параллельный мир» Е.Лапешева. А ведь она со спинорными духами накоротке! Другим же гораздо труднее. Но, как-то все-таки попав туда в роли Наблюдателя, они уже не могут диктовать свою волю ни сюжету, ни действиям персонажей – миры живут своей жизнью и по своим законам. Наблюдатель может только фиксировать происходящие там события и сообщать нам, читателям, результаты своих наблюдений. Вот, кстати, любопытная трактовка этого феномена одним из тех современных писателей, кто явно услышал «шорохи Мультиверсума», но пока не осознал всей глубины их источника, и которых я поэтому отношу к «интуитивистским эвереттикам». Это - Виктор Пелевин. В рецензии на его книгу «Relics. Раннее и неизданное» сказано: «Как-то Пелевин сравнил роман с цветочным кустом, растущим по своим собственным законам. Себя назвал садовником, лишь поливающим растение и удаляющим сухие ветки». А то, что Пелевин является одним из «услышавших», одним из «наших», ясно уже не только мне. Вот что пишет о нем анонимный рецензент, тем самым демонстрируя и свою принадлежность к множеству «уже услышавших, но ещё не осознавших»: «Чем же цепляет проза Пелевина? Во многом тем, что любой штрих повседневности находит свою, только ему предназначенную нишу в сконструированной в его произведениях системе. Помните, как искусно действуют герои его романов в альтернативном мире? Не исключено, что сам автор – неотъемлемая часть одного из таких миров. Какого именно? Только что вышедший сборник – литературный коктейль из злободневности и картинок из прошлого, приправленный ароматом будущего, заглянуть в которое предлагается под его, пелевинским, углом зрения». И это давно известное свойство творческого процесса – его слабая корреляция с волей автора – сегодня, с эвереттической точки зрения, становится дополнительным свидетельством реальности «параллельных миров» в ментальном измерении. А вот ещё одна загадка творческого процесса. Он, столь «интимный» по своей природе, редко бывает скромен – о полученном результате «автору-наблюдателю» почему-то хочется сообщить Urbi et Orbi, чтобы и «Город и Мир» узнали, что же он увидел в щелку между эвереттовсктми ветвлениями? Я совершенно не понимаю причины такого поведения Сознания (ибо объяснения типа «просто хочется», «хочется славы», «хочется денег» справедливы, но банальны и ничего не проясняют), но явно мессианское это явление должно найти объяснение в эвереттической этике, когда кто-то займется ее разработй… Здесь я позволил себе ещё глоток уже порядком остывшего, но по-прежнему вкусного кофе, и ещё пару ароматных затяжек из, правда, уже тихонько побулькивающей трубки… О развитии теории Эверетта в работах Дж.Барбура, ареальных множествах Полуиня, метаболическом времени Правича и очередной моей попытке найти «практическое применение» k-числам, а также о роли и месте неформальных научных семинаров в структуре академической науки. А умник долгие года Переживал, зубами клацал: Что за стеной – соседний карцер Или ближайшая звезда?.. Следующий раздел статьи – «О космогонии эвереттовских миров». Его главный пафос в том, что теперь уже ясно – теория Эверетта не догма, а руководство к действию! (Измениться может всё – вон, монголы даже день своей независимости поменяли, сдвинув его с лета на осень). Это стало особенно ясным после появления работ англичанина Джулиана Барбура. Он представил совершенно другой образ Мультиверсума. Не гигантского древа, ветвящегося в Прошлое и Будущее, а еще более гигантской пинакотеки, в которой все события Прошлого и Будущего существуют «одновременно», а самого времени просто нет. («Что за стеной – соседний карцер или ближайшая звезда?»). Его роль выполняет деятельность Сознания, складывая из отдельных «кадров» осмысленные «фильмы». И тогда склейки – это действительно «склейки», ошибки монтажа каждого индивидуального Сознания, «движущегося» по лабиринтам этой вселенской пинакотеки. Действительно, ведь если встать на точку зрения Барбура, равно реальны и те кадрики Бытия, в которых археологи обнаруживают упомянутый Лавентиновым гвоздь в отложениях Юрского периода, и те, где такого гвоздя нет. Ведь Мультиверсум – это та же Одесса. В нём «есть всё». Но, как и в «нашей Одессе», это далеко не равновероятные кадрики. (Атомную бомбу купить на Привозе все-таки труднее, чем скумбрию). Тех кадриков, на которых нет никакого гвоздя, в пинакотеке Мультиверсума несоизмеримо больше, чем «с гводем». А что такое несоизмеримость эвереттических чисел, мы уже видели. И вероятность того, что «блуждание сознания» по вселенской пинакотеке приведет к «полочке», где лежат кадрики «с гвоздем», ничтожно мала – это «истинное чудо» по понятиям тех, кто не может взглянуть на ситуацию эвереттически. И можно истолковать весь этот процесс как скитание пилигримов по закоулкам собственной памяти: Впрочем - так и всегда на средине Рокового земного пути: От ничтожной причины - к причине, А глядишь - заплутался в пустыне, И своих же следов не найти. Поэты вообще по «многослойности» своих произведений дадут «сто очков» форы любому прозаику, а этот даст и больше… И не случайно Судьба одарила его и таким именем, и такими жизненными обстоятельствами, которые обрекли его на скитания и перемену мест… Но удивительно, что именно он, земной скиталец, так тонко предвосхитил основной дух теории Барбура – одного из самых знаменитых «неформалов» британской научной гильдии и прирожденного домоседа. Упомянув национальность Барбура, я сам спровоцировал вопрос – а как у нас? Есть ли ещё «порох в пороховницах»? И – тут ни убавить, ни прибавить! – а только радоваться и гордиться следует тому, что «может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Руссийская земля рождать». Это, безусловно, было написано великим помором в предвидении появления у нас в Сибири, в далеком от столичных соблазнов Риноярске, философа Павла Полуиня. Пока Полуинь ещё молод и застенчив, не обременен ни званиями, ни «административным ресурсом», я не возьму на душу греха лести и не могу быть заподозренным в корыстных побуждениях, когда скажу, что его идея ареальных множеств, будучи «привита» какой-нибудь мастерской рукой к древу эвереттики, даст чудо как пышную ее ветвь! Ареальность – это новая категория «существования вне реальности». Здесь и сейчас – всё реально. Но и Прошлое и Будущее – не фиктивные, а только ареальные элементы множества Бытия. В статье я пробую применить полуиньевскую ареальность к барбуровской картине мира. Кажется, здесь «есть контакт»! Если встать на точку зрения Полуиня, то единственным реальным активным элементом множества Бытия становится Разум, которому очень трудно как раз Здесь и Сейчас. У В.Набокова есть такое этому объяснение: «Разум человека, по природе своей монист, не в состоянии принять две пустоты сразу; человек сознает, что одну пустоту – пустоту своего биологического несуществования в бесконечном прошлом – он уже миновал, ибо память его совершенно пуста, и это небытие, как бы прошедшее, вынести не так уж и трудно. Однако второе небытие, которое, быть может, переносить будет ненамного труднее, остается логически непостижимым». Разумеется, эта трудность обусловлена «действием» стрелы времени. У Барбура нет времени и, следовательно, нет и его «стрелы». Но важно то, что именно память и Разум, как это видно и из мысли Набокова, связывают все бытия и небытия ареального барбуровского множества мигов. И важно понимать, что «соседние» нормировки вовсе не обязательно связаны логически, что выбор точки центра нормировки может осуществляться и Хаосом, но в каждом таком центре память содержит именно логически связную картину пути, приведшую из Прошлого в Будущее. Так что «контакт» здесь явно есть. И мое пожелание для укрепления этого контакта «мастерской руки» в первую очередь относится к самому Павлу. Он и сейчас имеет достаточно творческой силы для того, чтобы осуществить эту задачу. Не хватает ему только осознания важности своей собственной идеи. А мастерство выковывается в ходе работы. Главное ведь уже состоялось – Павлу удалось из ставших уже «трюизмом» идей Блаженного Августина выкристаллизовать новое понятие, которое обещает дать столь многое… Другая ситуация с А.П. Правичем. В чем-то он близок по своему положению и жизненной позиции с М.Б.Вименским. Оба они – уже признанные мэтры, вполне достаточно остепененные и нашедшие и свою «экологическую нишу» и соратников, столь же «состоявшихся ученых». Может быть, только в этом – создании среды соратников – Правич более успешен. Но это и не удивительно. Занимается он чрезвычайно полезным и плодотворным делом – ведет им же и созданный Семинар, где свободно обсуждаются те научные вопросы, которые действительно вызывают искренний интерес «настоящих исследователей Натуры», но пока не приобрели достаточно прочного «академического статуса». Причем занимается искренно, вкладывая в это дело душу и сердце. Он и сам (как и М.Б.Вименский), по своей сути альтернативщик, но альтернативщик, который стесняется перед «академической общественностью» этой своей «слабости». Конечно, есть здесь и определенная «фронда», но фронда не выходящая за рамки «дозволенных речей», своеобразный «выпускной клапан» научного вольнодумства. И прелесть его для академических генералов в том, что этот «пар вольнодумства» выпускается «в никуда» - академическая наука может просто не замечать этого гейзера, а участники Семинара вполне удовлетворены тем, что их просто выслушивают. (И это действительно важно и ещё даст свои плоды. Но когда-то, не сейчас.) Иногда, правда, какая-то капля идей семинарского гейзера попадает и в «официальный котел». Собственная концепция времени А.П.Правича – с «субстанций его генерирующих потоков» - относится именно к этой категории. Я очень ценю ее оригинальность и вижу, насколько она «внутренне совместима» и с эвереттической концепцией Барбура, и с ареальностью Полуиня. Однако, в силу того, что Алексей Петрович, как мне кажется, очень надеется именно на «полноценное академическое признание» своей теории, он с боязнью и подозрительностью относится к обнаружению связей своего детища с другими «маргинальными идеями». Того же добивается – и, признаем, более успешно – М.Б.Вименский, который уже удостоился критики самого академика Алфинзбурга, но критика-то дана в его предисловии к статье Вименского в академическом журнале! И потому Алексей Петрович не только сам никогда не займется проявлением связей своей теории с «маргиналами», но и вряд ли поддержит тех, кто будет пытаться это сделать. Более того, он будет делать все (в рамках «кодекса чести джентльмена», разумеется!), чтобы отсечь все признаки подобного «родства». И я понимаю эту его позицию, ибо судьба дорогой тебе идеи в обществе, где её признание столь зависит от лояльности к «официальным структурам», важнее «сантиментов». В конце концов, каждый фанат болеет за «свой» «Спартак» и «своего» «Филиппа Пугачева»… Я сделал глоток уже совсем холодного кофе. При этом вспомнилось и то, что кофе в том славном учреждении, которое дало «приют» Семинару Правича, варили «среднего» качества, как раз такого, чтобы и ругать его было не за что, но и хвалить не представлялось возможным. Его следовало употребить – и забыть. Было что-то в такой концепции общее с оценкой современной «официальной науки»… Об обращении времени в квантовой механике, моих опасениях по поводу достаточности пределов моего понимания математики для выражения идей о формировании стрелы времени, компьютерной аналогии контрамотного движения, а также о влиянии литературного творчества Тверского губернатора на мое решение о публикации этого раздела статьи. В прошлом столетьи Искали огня закурить. Может, найдется поближе И ярче огонь Трубку морскую раздуть? Так, теперь раздел «Об обращении времени». Пожалуй, это будет одним из самых «темных» разделов моей статьи для «не физиков» и самым уязвимым для критики со стороны ортодоксальных «физиков». Первое понятно – все-таки пришлось заговорить на очень специальном математическом языке. А второе – следствие первого. Я сам только при большом напряжении и сосредоточении «кое-что» понимаю на этом языке. Это – на «верхней границе» моего осознания, причем «в живой дискуссии» на эту границу я могу выйти при особых условиях и только при очень доброжелательном отношении со стороны собеседника. Последнее же случается весьма не часто, а в беседах с физическими «ортодоксами» - почти никогда. Так что, включая в текст этот раздел, я почти наверняка обрекаю себя в случае каких-то объяснений с рецензентом или редактором на мучительные паузы, квазиглубокомысленные междометия типа: «Э… Позвольте…», стыдливое опускание глаз в ответ на напористое: «Это формально неверно!», и совершенно унизительное молчание в ответ на язвительную реплику о том что «и за менее очевидное невежество я выгоняю студента из аудитории...» Но, в подобных случаях мне всегда вспоминается одна мысль обожаемого и постоянно цитируемого Самуилом Лазаревичем великого руссийского сатирика, зарабатывавшего себе «на кормление» губернаторством в Твери. Собственно именно от Самуила Лазаревича я впервые и услышал эту мысль. В «Уставе о благопристойном обывателей в своей жизни поведении», а именно в его статье 21, предписано: « При встрече с лицами высшими предоставляется выражать вежливое изумление и несомненную готовность претерпеть». А, поскольку и рецензент и редактор для автора есть лица, безусловно, высшие, я такую готовность ощущаю, а потому раздел этот в статье оставляю. По сути же, теперь я глубоко убежден в том, что эвереттические ветвления, абсолютно симметрично растящие гигантские кроны ветвей событий как в прошлом, так и в будущем, однозначно свидетельствуют, что так называемая «стрела времени» - это локальная особенность ничтожного по своим масштабам «нашего» элемента Мультиверсума. И даже не самого этого элемента, а нашего его восприятия. А, значит, существуют и такие «отростки» нашего мультивидуума, которые свое Будущее «в прошлом столетьи искали»… Можно провести такую аналогию. Если в компьютере установлена операционная система Windous, то при нажатии клавиши включения под фирменным логотипом появляется сине-голубая «бегущая строка». И волна цвета бежит по ней слева направо. Так будет при включении любого компьютера с этой операционной системой. Это – безусловно однозначный экспериментальный факт. Его можно назвать и «законом компьютерной природы» на каждый день. Кроме одного в году. Наступает Мария-заиграй овражки и… Кто-то ставит на тот же компьютер другую операционную систему, в которой эта строка бежит справа налево. И все тексты в этой операционной системе тоже отражаются на экране строками, начинающимися у правого его края. При этом «внешний мир» в лице «юзера» останется тем же самым, а вот его восприятие компьютером изменится на противоположное - контрамотное. А вот Кто ставит эту систему, «из каковых дальних пределов чтойность ктойности нашей почерпнула свою причинность», и только ли «на Марию» - вопрос отдельный… И если мы именно «компы», а не «юзеры», то можно сказать, что стрела времени – это «программный эффект». Не знаю, удалось ли мне этой аналогией прояснить ситуацию, но, смею надеяться, что она кому-то поможет понять мою мысль. А формальное ее выражение – в тексте статьи. Кофе в чашке с бабочкой закончился, трубка заклокотала так, что горечь стала выплескиваться через ее мундштук. Я отправил и чашку и трубку на стол, взял свежую бриаровую одесситку и чистую коллекционную шведскую чашку. Это скромное, но полное достоинства прозрачное стекло Ната приглядела в Стокгольме в антикварном магазине и, о чем-то поспорив с леди типа «божий одуванчик» - хозяйкой заведения – выторговала ее для нашей коллекции. Для меня этот эпизод остался в памяти как пример решительности даже при недостатке средств (шведским Ната не владеет). Сегодня он всплыл как нельзя кстати. И при будущем разговоре с рецензентом и редактором я обязательно вспомню именно эту чашку… О работе над главным разделом статьи, «физическом» и «лирическом» восприятии Прошлого, Настоящего, Будущего и Чуда, анализе образа Ленина в поэме «златоглавого окича», последней в этот день победе над Соблазном и отчаянных попытках обеспечить успех завтрашнему своевременному пробуждению. Мы в другое погружены. В ход природ неисповедимый. И по едкому запаху дыма Мы поймем… Но вот, наконец, и то, ради чего я мучил читателя всеми предварительными рассуждениями. Это раздел «Древо Истории в эвереттике». Прежде, чем говорить об Истории предметно, нужно очертить ту ее структуру, которая выявляется в ходе эвереттического ее анализа. И основными логическими структурными элементами Истории с этой точки зрения являются понятия Прошлого, Настоящего, Будущего и Чуда. Особенно интересны из них два – это Настоящее и Чудо. Первое – это единственный реальный элемент ареального (в смысле Полуиня) множества (ареальной триады) «Прошлое-Настоящее-Будущее». Причем элемент, «выпавший» из рассмотрения физики! Вот здесь, кстати, лежит одно из главных различий «физиков» и «лириков». «Физики» живут в Настоящем, но «вне его» - изучают только Прошлое и предсказывают Будущее. Их метода такова: на основании анализа эксперимента (а все экспериментальные события – в Прошлом) они выводят законы, которые предсказывают результаты Будущих экспериментов. «Лирики» же и живут, и творят именно в Настоящем и ради Настоящего, имея в виду Будущее только как последующий реальный центр нормировки ареальной триады и только поэтому интересный Здесь и Сейчас. И Прошлое для них – реальный строительный материал для Настоящего. (Но некоторые из них не пренебрегают и контрамотной тропинкой, создавая Прошлое из материала Будущего, как это делает Джайс: «Держись за здесь и теперь, сквозь которые будущее погружается в прошлое»). Что касается чуда, то важно убедить читателя в том, что оно – вещь действительно «обыкновенная», и доля удивительных чудес просто ничтожна в общем их количестве. Принципиально же то, что и внезапно вскочивший прыщик, и «сверкнуло, бухнуло, и тотчас же из-под купола начали падать в зал зеленые бумажки с портретами лысых стариков» - события из одного ряда. И если все это осознано и устоялось в сознании читателя, то он уже совершенно спокойно воспримет Историю не как линейную цепочку событий, а как путешествие, в котором восприятие устремляет наше «Я» и «вверх» – в крону ветвей Будущего, и «вниз» – в корневую систему Прошлого. Для такого читателя ясно, почему поэт употребил множественное число, когда писал о ходе «природ неисповедимых»… Поскольку я решил вводить эвереттику в храм науки с «гуманитарного входа», особо важно показать читателю структуру именно Настоящего. И здесь нужно использовать понятие «кванта Истории». Этот квант является той «почти точкой» Здесь и Сейчас, которая содержит «генетическую информацию», обеспечивающую и индивидуальный вид исторического древа для каждого индивидуума, и возможности взаимодействия между ними с образованием общей структуры мультивидуума. Ну, а завершить нужно будет примерами успешного проникновения «лириков» на территорию «физиков», благо такие разведчики уже есть… Здесь мне вспомнилась одна мысль, которая мелькнула у меня во время нашего с Сережей посещения села Константинова под Рязанью. Тогда гомон и суета каких-то азиатов (дай Бог здоровья и им, и их финансовой системе!), клацанье затворов их фотоаппаратов и невнятица о чем-то стрекочущих гидов-переводчиков, помешали ей до конца оформиться. А возникла она в связи со строками, всплывшими в памяти: «Скажи, Кто такое Ленин?» Я тихо ответил: «Он – вы!» Сейчас мне удалось взглянуть на эти строки с эвереттической точки зрения. И мне явно открылся их смысл, который, тогда, в Константинове, вероятно возник в подсознании и вытолкнул из памяти эти строки . Во-первых, поэт ставит вопрос о личности Ленина как о некоей объектной мегасущности – «Кто такое Ленин?». Употребление среднего рода свидетельствует вовсе не о «безграмотности» задающих этот вопрос крестьян и, тем более, поэта, а именно об ощущении ими объектности личности в Истории. И Ленин для них – безусловный объект на картине исторической реальности. Во-вторых, поэт ясно осознает и доводит до сознания слушателей это свое ощущение громадности и взаимосвязанности мультивидуумов в Истории – «Он – вы!». В-третьих – все это очень серьезные для поэта вещи, и атмосфера этой серьезности выражена мастерски одним словом – «тихо». Есть, конечно, и «в-четвертых», и «в-пятых»… Но и сегодня я не смог «додумать эту мысль», но уже по совершенно другой причине – от усталости я просто «поплыл». Надо бы собраться как-нибудь и написать специальную статью о Ленине – есть в его биографии несколько моментов, ярко свидетельствующих о реальности склеек в истории, это было бы очень полезно для аргументации именно в среде «лириков», чтобы прочитавший эту статью и даже не до конца ее понявший «рядовой читатель» хлопнул себя по лбу и воскликнул: «О чем, товарищи, разговор! Что здесь дело нечисто, это понятно даже ребенку. Он личность незаурядная и таинственная на все сто. Но ведь в этом-то самое интересное и есть!» Но когда на это «найдется время», которого по Барбуру и вовсе нет?.. Я оторвался от компьютера и взглянул на часы. Они показывали без четверти пять! Если бы Ната была дома, она бы, конечно, не допустила такого безобразия и отправила бы меня спать два часа назад. А сейчас я настолько «сломал» свой ритм, что заснуть даже на три часа будет сложно. А уж если это удастся, то как проснуться вовремя? Лукавый, возникший над правым моим плечом, деловито предложил «ещё одну чашечку чудесного кофе» из какой-нибудь экзотической коллекционной чашки (благо выбор чистых ещё сохранялся большой) и намекнул, что и пенковые трубки бывают хороши под терпкий кофейный аромат. Но я твердо сказал ему «Нет!» и решительно нажал кнопку выключения компьютера. Потом я «взвел» все имеющиеся в доме будильники, добавил к этой команде и свой мобильник и решительно отправился спать. Глава 22 О втором пробуждении в этот день, возвращении из банка Пегего и Елены Никоновны, загадочной их пикировке, моей работе по подготовке документов для «Росценка» и приглашении Ефима Семеновича, а также о том, что, оказывается, и в Черномории нужно платить налоги! …А Вашей версии событий я не приемлю, как Ваш тон Как не приемлет Черномырдин всего, что не приемлет он. … Я очнулся от того, что Самвел мягко тронул меня за плечо и сказал: - Поехали, Георгий Евгеньевич? Елена Никоновна уже вернулась! Мой внутренний оператор в «ускоренном режиме» проводил подключение всех необходимых мыслительных блоков к реальности. Прежде всего – «объективка». Про цвета флага уже не надо, а вот ближайшее прошлое – кратко но емко, пожалуйста! Итак, я пил свой утренний кофе. А дальше - звонок по мобильному – машина у подъезда. Приветствие Елены Никоновны, Пегего и Самвела. Поехали в банк. По дороге сморило – все-таки ночь перед экраном дала себя знать! Они оставили меня отдыхать в машине с Самвелом (тоже, похоже, недолго сегодня ночью спал – но, я так думаю, по другой причине!), а сами пошли в банк. Не было их часа полтора. И мы с Самвелом «нарушили режим» по полной программе! Теперь вернулись. И мне нужно начинать работать, то есть «посматривать» вокруг – бумага у Пегего серьезная… Прежде всего, надо узнать – все ли в порядке. И я спрашиваю, обернувшись на заднее сидение: - Простите Елена Никоновна – плохо сегодня спал, вот и сморило! Ну, как там в банке? Елена Никоновна взглянула на сидевшего с ней рядом Пегего и сказала: - Да все нормально, Георгий Евгеньевич! Поворачиваюсь к Пегему: - Красивая бумага, Петр Гейдарович? Пегей равнодушно пожимает плечами: - Да ничего особенного… Приедем – сами посмотрите. Но приятнее будет, когда эта бумажка «заколосится» блестящими «мандаринами» - или кто там у них в Азии теперь в почете, президенты? – на наших индивидуальных огородах. И листиков у этих фруктов пусть будет намного больше трёх… Вы ведь и в этом месяце сумели бы посчитать больше, чем до трех, Елена Никоновна? – спросил он «со значением», поворачиваясь к Елене Никоновне. Она вздохнула и ответила: - Я, Петр Гейдарович, много чего умею. И «считать» умею, и «не считать» умею, и говорить могу, но и помалкивать тоже! И она также «со значением» молча посмотрела на Пегего и, сочтя, что он должен был понять ее «правильно», сказала: - Поехали, Самвел! Самвел хитро подмигнул мне, как бы говоря: «Все ясно! Не зря они вас с собой не взяли! Был у них секретный пункт - шеф таки решил еще раз в этом месяце нас «стимулировать» и в честь начала фартового дела будет ещё одна зарплата!». Я против такой трактовки ничего не имел, но и не особо в нее верил – мало ли на что нужны были шефу деньги! И я своей ответной мимикой постарался показать Самвелу, что «Вашей версии событий я не приемлю»… … По возвращении в «контору» выяснилось, что шеф должен срочно уезжать «по делам» (как шепнула мне Белла Борисовна – «тут святое – в Черномории тоже налоги платить нужно!»). «Хорошо, что Самвел выспался, - подумал я, - а то ведь сейчас на дорогах самый пик!». Порученец из «Росценка» вызван на вечер, а пока мне было велено подготовить весь пакет документов и положить их в красную папку ему на стол. Я распечатал на новом лазерном принтере последний вариант Договора, заменив цифру в 30000000 рублей на 21000000. Это стало возможным после того, как Илья уговорил Тамару Николаевну снизить сумму предоплаты, а мы с Сережей договорились в Рязани об отправке бензина в Магнитоград. Наконец, я забрал у Пегего аккредитив (действительно вполне обыкновенная бумажка, не стоила бы она наших хлопот, если бы не стоящая там сумма), сложил все это в папку и положил в сейф Елены Никоновны. Такой набор документов не может валяться у меня на столе до возвращения шефа! Он вернулся в отменном настроении в половине пятого. Встреча с «Росценком» была назначена на пять. Ефим Семенович забрал у Елены Никоновны папку, что-то доверительно сказал ей «на ушко», и направился в свой кабинет. Через пять минут из динамика раздался его благодушный голос: - Георгий Евгеньевич, зайдите! - Что это, Георгий Евгеньевич? Откуда здесь эти стихи про звон колоколов? Где текст Договора и Аккредитив!? Куда пропала эта «бумажка» стоимостью двадцать один миллион?? До сих пор я был хозяином в этом кабинете! И все, что здесь появлялось и делалось, было обусловлено только моей волей! Он резко закрыл папку. Возникший при этом порыв воздуха выхватил из нее какой-то листок, который кругами стал планировать на пол. Ефим Семенович, побледнев, начал оседать, валясь на бок… Я успел подскочить вовремя и усадить Ефима Семеновича в его кресло. Подобрав упавший листок я прочел текст: Морква златоглавая! Звон колоколов, Царь-пушка державная, Аромат пирогов… Раскрыл папку. Там лежало несколько листочков текста Договора и сверху - аккредитив на 21000000 рублей. Тот самый, взятый сегодня утром из нашего банка. - Ефим Семенович! Если вы боитесь увидеть в темноте черную кошку, постарайтесь не отягощать страха мыслями о тигрице. И уж совсем не следует даже вспоминать о суккубе! Страхи материализуются – вы боялись увидеть папку пустой, пустой она и была в ваших руках… Третье Дело вкуса, или что может быть, если выпить утром рюмку коньяку Хотя и прошлое и будущее реальны, но лишь в настоящем что-то действительно совершается: столько людей в воздухе, на суше и на море, но единственное, что происходит на самом деле — это происходящее со мной. Хорхе Нильс Боргес. «Сад сходящихся тропок» Утренний морок. Давид Ильич был хмур и как-то неестественно прям, сидя на краешке сиденья своего любимого кресла перед рабочим столом, стоящим у дальней стены его обширного кабинета. Справа от него, за широким окном, раскинулась осенняя панорама Мошквы-реки с фигурками мужественно мокнущих на набережной рыбаков, одетых в зекрые армейские непромокаемые плащи. Невидимое из-за плотной облачности солнце все же достаточно освещало эти живые статуи и выявляло контраст силуэта чугунной решетки с цепочкой высаженных вдоль нее деревьев, и тусклой, с ртутным металлическим блеском, воды. Зеркало водной глади было исщеблено рябью дождевых капель, на фоне которой фигурки упрямых неподвижных рыбаков смотрелись очень живописно. На столе, в специальной подставке, тлела очередная «ароматическая палочка». После того, как Давид Ильич бросил курить, его кабинет пропах «восточными благовониями», как церковная лавка ладаном… Перед Давидом Ильичем, в кресле «для гостей», расположился Владимир Иванович Ктолин – наш новый сотрудник, принятый на работу всего полгода назад. Давид Ильич был напряжен и явно нервничал. Чувствовалось, что он вряд ли бы устоял от соблазна, предложи ему кто-то в этот момент сигарету. Было видно, что ему трудно решиться начать разговор. Но пауза уже и так затянулась сверх всякой меры. И Давид Ильич поборол себя и свои сомнения и решительно обратился к Ктолину: - Владимир Иванович, скажите, за те полгода, что вы у меня работаете, нарушил ли я хоть раз данное мною слово платить вам 70 тысяч рублей в месяц? То, что в вопросе была озвучена сумма, было вопиющим нарушением принятой у нас этики – о наших вознаграждениях не должен знать никто, кроме дающего и берущего деньги. И такой вопрос означал, что шеф больше не считает Владимира Ивановича «нашим», то есть членом «фирменной семьи». Может быть, поэтому Ктолин отреагировал на вопрос не сразу, как бы что-то обдумывая, но, спустя несколько секунд, твердо и спокойно ответил: - Нет, Давид Ильич, я такого не припомню… Услышав это, Давид Ильич обратился ко мне: - Юрий Александрович, а вас за все годы нашего знакомства я часто обманывал? Я тоже ответил не сразу. Но это и естественно – мне нужно было вспоминать гораздо более длинный период. Да и после вопроса к Владимиру Ивановичу вопрос ко мне выглядел не менее демонстративным. Но и я не нашел ничего в своей памяти, что не позволило бы дать почти ожидаемый ответ: - Нет, Давид Ильич, не часто… Было видно, что последние два слова «царапнули» что-то в душе Давида Ильича, но он уверенно продолжил: - А потому я честно говорю – моя совесть перед вами обоими чиста. Когда мог – платил, а теперь – не могу… Отдача от вашей работы не позволяет мне этого. Но вы настоящие мужики, «волки» в бизнесе, сами все понимаете лучше меня… И долгие проводы – лишние слезы. Сейчас вы получите у Елены Никоновны по 50 тысяч и – попутного вам ветра! Он замолчал. В этот момент «ароматная палочка» испустила последнюю струйку дыма цвета бороды Абдель-Кадера, и тоже «замолчала». Уверенность снова оставила Давида Ильича и он ждал нашей реакции с нараставшим с каждым мгновением напряжением. Владимир Иванович, опустив глаза, явно выдерживал долгую паузу. В течение примерно 15 секунд гнетущей тишины, как я отметил, желание стоявшего перед нами Давида Ильича закурить достигло почти нестерпимого предела. Наконец, Владимир Иванович поднял глаза, внимательно посмотрел на Давида Ильича, и вдруг спросил: - Сигареткой не угостите? Хотя что это я… Теперь угощать нужно мне – у вас ведь денег на приличные нет, а всякую дрянь вы курить не станете. Вы какие сигареты предпочитаете в это время суток? Давид Ильич явно не ожидал такой реакции и от растерянности сфальшивил, ответив громко и по театральному грозно: - Прекратите балаган! До сих пор я был хозяином в этом кабинете! И все, что здесь появлялось и делалось, было обусловлено только моей волей! Владимир Иванович спокойно переждал эту истерику и твердо сказал: Да кто с вами спорит? Хозяйничайте себе, пока не надоест! Вот только выдайте по два, как положено, оклада, да выходное пособие – и хозяйничайте дальше как хотите! Не будем мелочиться – по сто пятьдесят тысяч каждому и мы поплыли с «попутным ветром»… Шеф молчал. Некоторое время молчал, ожидая ответа, и Владимир Иванович. Потом он опустил руку в карман пиджака и достал из него пистолет. Красная точка лазерного прицела заплясала на груди Давида Васильевича, который, побледнев, начал оседать, валясь на бок… В это время события последних шести месяцев мелькали у меня в голове с невероятной быстротой. Пинакотека бытия пролистывалась сознанием со скоростью мысли – время прекратило свое течение и, если бы я мог в эти мгновения задаваться абстрактными вопросами, то наверняка бы подумал – а есть ли оно вообще? О моей утренней фобии, вещем сне, приведшем к употреблению коньяка на пустой желудок, изменениях кадрового расклада и поисках нового «хлебного поля» на фирме, моей встрече с Савелием Ильичем в Старом Новгороде, а также о странном появлении нового сотрудника – Владимира Ивановича Ктолина. За ними поют пустыни, вспыхивают зарницы, звезды дрожат над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним. Да. Останется прежним. Ослепительно снежным. И сомнительно нежным. Мир останется лживым. Мир останется вечным. Может быть, постижимым, но все-таки бесконечным. Я очень не люблю первые полчаса после пробуждения. Каждый раз, осознав, что я проснулся, я с неприязнью жду включения в жизнь. И с неизбежным раздражением отслеживаю работу какого-то внутреннего оператора. Он коммутирует связи в блоках памяти, отключая линии сновидений и включая воспоминания о самых близких, о прошедшем дне, о том, что Волгла впадает в Балтийское море, что военные люди защищают отечество, о цветах нашего государственного флага – знаменитом «бебучёре» - бело-бусово-чёрном триколоре. Никак, кстати, не могу запомнить, что символизируют его цвета – белый, кажется, невинность и чистоту помыслов нашей праматери, бусый – гармоническое единство нашей ментальности с чертогом Всевышнего, чёрный – цвет нашей земли. Или я что-то путаю? Впрочем, это не мудрено. В последнее время полотнище так часто менялось и так причудливо менялась окраска различных его частей (традиционно форма полотнища копирует географические очертания страны), что запутаться совсем несложно. А оператор продолжает свою работу, начиняя мой мозг тем, что составляет мое индивидуальное «Я» в этом мире. И его работа должна убедить меня, «что мир останется прежним». Впрочем, сегодня работа оператора протекает несколько странно. Сразу после загрузки «служебной информации» о том мире, в который я попал после пробуждения, подключилось необыкновенно отчетливое воспоминание о ночном сне. А также уверенность в том, что он – вещий. И сразу на душе стало как-то пакостно и даже тоскливо. Сцена в кабинете всплыла во всех ее гнетущих подробностях – от расположения предметов на столе Давида Ильича до ассоциации клацающего звука закрывавшейся за нами двери кабинета с клацаньем затвора армейского автомата конвойного. Возникло даже ощущение того, что события в кабинете не приснились мне, а были реальностью вчерашнего дня. Ощущение было настолько ясным, что я решил – поскольку спешить мне теперь особенно некуда, можно не торопиться вставать. Бяшка, правда, долго расслабляться не даст – его утренняя прогулка не может задержаться из-за каких-то моих заморочек и мороков: пописал сам – веди пописать Бяшку. Сознание некоторое время колебалось вокруг вопроса о том, что же всё-таки было вчера – рутинная тягомотина очередного обсуждения «состояния вопроса о ходе работы по использованию органических отходов для получения сажи» или динамичная, почти «голливудская» сцена нашего с Владимиром Ивановичем увольнения? Решающих аргументов не было ни у одной из альтернатив, но, поскольку надежда умирает последней, я решил придерживаться той версии, согласно которой кошмар этой ночи стал следствием перенапряжения последних недель и чрезмерной вчерашней работы в фотошопе – я правил риновый баланс летних дачных фотографий. Приняв такое решение я встал и отправился на кухню. На столе лежали очки с отломанной дужкой и записка: «Я сегодня буду поздно. Заседание кафедры и вечерники. Сырки в холодильнике, но кофе кончился. Почини очки – пропал винтик. Наташа». Зачем вечерникам химия? Когда-то я, мальчишка-ассистент едва за двадцать, задал такой вопрос своей студентке-вечернице, фигуристой барышне «чуть-чуть за тридцать» Она пыталась получить у меня допуск к лабораторным работам, а я был склонен ей отказать по причине отсутствия в ее голове хотя бы минимума необходимых знаний. Видя это мое намерение, студентка ответила совершенно честно: «Если я не получу диплом, я буду неинтересна мужу». Мне казалось, что я был готов к любому варианту ее ответа («для знания», «для успешной работы» и прочим банальностям), но оказалось, что жизнь богаче наших представлений о ней и также, как в ней всегда есть место подвигу, «ещё более всегда» в ней есть место для неожиданности, что и продемонстрировал мне полученный ответ. Я был нокаутирован и тут же поставил студентке допуск. Кстати, если бы она сказала вместо «мужу» «любовнику» (так сказать в те пуританские времена она, конечно же, не могла даже для получения зачета, но предположим!), я бы ей не поверил. При ее-то «внешних данных» незнание химии вряд ли могло хоть как-то препятствовать постельным утехам. Но она сказала правду – семью моя принципиальность разрушить могла… Это воспоминание отвлекло меня настолько, что я, как оказалось, не осознавал, что уже довольно долго торчу перед кухонным шкафом и вот уже в который раз пытаюсь зачерпнуть ложку кофе из пустой банки. Поняв, что сегодняшнее мое состояние после такого сна явно не относится к рядовым и потому не может прийти в норму путем «традиционных процедур», я протянул руку к верхней полке, достал бутылку «Кутузова» КВВК мошковского разлива, серебряную рюмку, приобретенную когда-то «по случаю» за пятнадцать тысяч рублей, наполнил ее и выпил залпом, совершенно не почувствовав «тонкого аромата южно-французского марочного винограда». Точно также в этот момент я, вероятно, выпил бы и цикуту, если бы не понимание того, что после моего отбытия в какой-то другой, призрачно-манящий мир, где не было ни сегодняшнего вещего сна, ни, тем более, его реализации, в этом - «лучшем из миров!» - останутся и Наташа, и дети, и друзья и так и негулянный Бяшка… Мысли, как известно, обладают способностью к материализации, не всегда – и это очень хорошо! – полной, но и частичная может доставить хлопоты. В данном случае материализовался Бяшка. Он сел передо мной в позе преданности и подчеркнутой подчиненности, за которой, впрочем, явно была видна истинная его цель – напомнить, что пора и мне выполнять свой долг и вести его на прогулку. Волна коньячного тепла уже докатилась до кистей рук и ударила в ноги – в желудке ведь пока не было «ни маковой росинки». Я вернулся в комнату, достал из своего «тревожного чемодана» (т.е. дорожной сумки, всегда готовой к немедленному отбытию в срочную командировку) маленькую баночку кофе «Пеле», заварил покрепче и с двойным сахаром, разломил пополам колясочку колбасы и завершил утренний ритуал почти нормально – чашка кофе, две папиросы и бутерброд с колбасой и вареной морковкой – Наташа варила ее для меня специально и загодя, так что в холодильнике всегда был изрядный запас этого лакомства. Жизнь вернулась «на круги своя». Пока я кайфовал, покуривая свои любимые папиросы «Беломор-канал» «под кофе», а Бяшка с надеждой предвкушал утреннюю прогулку, не проявляя пока чрезмерного нетерпения, к сознанию подключился новый блок – воспоминания о царившей на фирме суете последних месяцев. Причина была простой – мы искали сырье для производства сажи. После того, как Сан Саныч с нашей помощью наладил производство ценковых белил из фарта и смог приобрести достаточный оборотный капитал, он, естественно, «перекусил» у нас Магнитоград. Его ловкий порученец Савелий Ильич сумел как-то сговориться с Рашидом Нурлиевым, начальником магнитоградского Техотдела, который в какой-то «очередной раз» просто не подписал мне согласование цены, и фарт уехал в Челядьевск без нас. Были, конечно, попытки вернуть «наше» сырье обратно и направить его в Сталинград, где его принимали у нас очень хорошо, но даже совместных усилий Тамары Николаевны (она осталась нам «верна до конца») и Александра Еремеевича (он несколько раз ездил в Магнитоград «для улаживания вопроса») не хватило, чтобы отстоять фарт в борьбе с Рашидом Фархутдиновичем. Как говорил нам Александр Еремеевич, «этот дол…б нормального языка не понимает – не пьет, не курит, а вечерами сидит дома и схемы чертит». И то, что он в конце концов победил, было понятно – на стороне Рашида было такое мощное преимущество, как производственная база Челядьевска, который согласился осуществить заветную мечту технолога Нурлиева и наладить из части фарта совместное производство ценкового порошка. Мне даже кажется, что Сан Санычу союз с Нурлиевым стоил совсем недорого – Нурлиев был фанатом идеи производства именно порошка. А фанату, как известно, «покажешь медный грош – и делай с ним что хошь!» И нам пришлось искать «новые хлеба». Достаточно «плодородного поля» для общей работы не нашлось, и коллектив разбился на «инициативные группы», каждая из которых фактически стала «маленьким «Ипотехом»». Фирма повторяла эволюционный путь рептилий – от гигантских диплодоков к скромным ящеркам. И также, как эти юркие пресмыкающиеся, мелкие группы могли пролезть в самую узкую «бизнес-щель», а в случае опасности – и пожертвовать хвостом… Мне достался в напарники новичок – Владимир Иванович Ктолин – и не очень «хлебное» башкирское сажевое поле. Илья взял себе Александра Еремеевича и Ленцевский регион, Пегей – Сережу, они пахали на севере – в Ухтебе и Сосенграде , и каждая группа пыталась хотя бы «прокормить себя». Как попал к нам Владимир Иванович, я не знаю. Вообще Давид Ильич очень «привередлив» в выборе сотрудников, а вот в случае с Ктолиным все произошло стремительно. Владимир Иванович пришел на «смотрины», о чем-то они с полчаса поговорили с шефом за закрытыми дверьми, а наутро отставной полковник Ракетных войск стратегического назначения и обанкротившийся в недавнем прошлом коммерсант из «новых русских» уже «поступил в мое распоряжение». Это был «настоящий полковник» - немолодой, заметно лысеющий, но при этом тщательно следящий за своей прической, слегка полноватый, однако с великолепной гусарской выправкой, гусарской лексикой, и гусарскими замашками в обращении с окружающими. При более тесном общении выяснилось, что за этой «гусарщиной» скрывалась такая детская непосредственность, застенчивость и доброта, что мы через некоторое время почувствовали искреннюю взаимную симпатию. То есть, говоря формальным языком кадровиков – «сработались». Поскольку сажа и ценковые белила технологически и коммерчески «пересекались» в производстве шин, была не исключена возможность конкурентного столкновения с Челядьевском. Но мы его не только не боялись, а даже тайно желали – и я, и Александр Еремеевич, да и Илья считали себя оскорбленными «челядьевской изменой» и каждому из нас хотелось лично наказать наших обидчиков. Повезло мне. Я «пересекся» с Савелием Ильичём в Старом Новгороде, на Волге, на известном шинном заводе, расположенном «в двух шагах» от знаменитых памятников, украшающих 1000-рублевую купюру. Я приехал пристраивать сажу, добытую Александром Еремеевичем в Ленцке, а Савелий Ильич там же хлопотал за долгосрочный договор на поставку своих белил, сделанных из «нашего» фарта. Мы случайно столкнулись с ним в заводской столовой во время обеда. Савелия Ильича я заметил первым – он стоял в конце довольно длинной очереди на раздачу и когда увидел меня, то чуть не выронил из рук приготовленный уже поднос. Я подошел и поздоровался: - День добрый, Савелий Ильич! Мир тесен для тех, кого ноги кормят, не правда ли? Савелий Ильич не стал, как при встрече в челядьевском аэропорту, отрицать наше знакомство, быстро взял себя в руки, и ответил вполне светски, но с привкусом снисходительного торжества: - Рад видеть вас, Юрий Александрович! Рад и тому, что вы ещё «на плаву»… Помните, в школе учили: «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла»… Я-то знаю, чего порой стоит выдерживать этот принцип, так что примите моё искреннее восхищение вашей стойкостью… Я усмехнулся: - Да полноте, Савелий Ильич! Эка вы глубоко копнули – школу вспомнили! Я уж и арифметику школьную стал забывать, не могу сейчас даже какую-нибудь задачку на деление решить. Вот тут на днях сын-оболтус одной из наших сотрудниц позвонил ей на работу и спросил: «А как по правилам с приятелем делиться – пополам или по-братски?». Я не знал ответа. А вы бы что сказали? Савелий Ильич задумался и неуверенно ответил: - А разве есть в арифметике какие-то правила на этот счет? Я тут же поддержал его: - То-то и оно! Нет в арифметике таких правил. Это, оказывается, дети КВН репетировали, и у них был такой ответ – «правильно – по понятиям»! Вы тут школу вспомнили… Вот я вам и напомню один наш разговор о памяти. Помните наше обсуждение русского фольклора на примере пословицы «Кто старое помянет…»? Я вам тогда ещё подсказал её окончание? Так вот, глаза у меня, как видите, целы – углядел я вас издалека. И потому знайте – я ничего не забыл! И правильное деление – по понятиям – мы с вами ещё не закончили! Савелий Ильич посерьезнел и сказал: - Хотите – верьте, хотите – нет, но я с Нурлиевым специально оговорил, что б вашу долю он не трогал. Вы ж меня тогда спасли – выгнал бы меня Сан Саныч с «волчьим билетом». А я не подлый человек и зла бы вам никогда сознательно не сделал. А уж что там потом Тамара Николаевна с вашим Александром Еремеевичем и Рашидом Фархутдиновичем без меня «сварили» (а они втроем не раз паркетом в магнитоградской гостинице скрипели – помните её полы в 203 номере?), как они меж собой поделились – я не знаю. Со свечкой не стоял… Да и знакомая кастелянша, «тёзка» моя, Савва Панкратьевна, в чужие дела носа не сует. Но, конечно, и глаз не прячет – кто к кому когда приходит, видит отлично! И читать надписи на этикетках пустых бутылок при уборке в номерах вполне умеет. Так что какой коньяк, какую водку постояльцы пьют – знает наверняка. И рассказывает не таясь, если ее правильно попросишь… И по тембру его голоса, и по выражению глаз Савелия Ильича я понял, что он не лжет, и что действительно наш «Саша» не только с Тамарой Николаевной «решал вопросы» в Магнитограде… Но он ведь и не скрывал, что с Рашидом «схватывался»! Правда, о «тройственных переговорах» я как-то не слыхал… Да и в трезвенности Рашида я теперь не был уверен… После этой встречи ситуация в Магнитограде и Челядьевске перестала для меня быть однозначно ясной, но сделку Савелия со Старым Новгородом я все-таки урезал – в отделе снабжения шинного завода рассказал о том, что челядьевские белила делаются из фарта и они содержат примеси железа хоть и не выше нормы, но не стабильны даже в одной партии. И Старый Новгород взял у Савелия Ильича не 2 вагона в месяц, а только один – «на пробу»… Бяшка уже находился на грани «дисциплинарной устойчивости» и готов был начать подавать мне «звуковые сигналы», строго ему запрещенные в доме. Я понял, что он совершенно прав в своих притязаниях и не стоит доводить этого достойного представителя «четвероногих друзей человека» до правонарушения. Ведь ругать его за призывный лай было бы несправедливо, а подчиняться в такой форме выраженным требованиям – значило проявить недопустимую в отношениях с собакой слабость. Я быстро поставил на плиту кастрюльку с геркулесом («Овсянка, сэр!», - любимая Бяшкина еда), накинул куртку, взял зонтик и поводок. С этого момента по нашим неписанным домашним законам прогулка считалась начавшейся и Бяшка, подпрыгнув от радости, залился нетерпеливым лаем – скорее, - да скорее же! - открывай дверь, не тяни, пошевеливайся!.. О нашей утренней прогулке с Бяшкой, ее географических и социальных обертонах, о воспоминаниях, связанных с командировкой в Емельянов, а также о странном деловом ужине в Емельяновском ресторане и примечательной беседе с Полициянын уссат ерли векили Входит Пушкин в летном шлеме, в тонких пальцах – папироса. В чистом поле мчится скорый с одиноким пассажиром. И нарезанные косо, как полтавская, колеса с выковыренным под Гдовом пальцем стрелочника жиром оживляют скатерть снега, полустанки и развилки обдавая содержимым опрокинутой бутылки. На улице было сумрачно и сыро. Дождя как такового почти и не было, но все те провалы, прогибы, выбоины и щербатости дворового асфальта, которые в «обычный день» почти и не отмечались взглядом пешехода, «актуализировали» свою способность превращаться в лужи и, тем самым, превратили тихий мошковский дворик, конечно, не в финский Хювянкяя, славный не только своими озерами, но и чистейшим «горным воздухом», а, скорее, в подобие мошковской Мещеры – озерного и болотного края. Я, выйдя из подъезда, повернул не влево – к реке и тропинке, ведущей на работу, а вправо, к Садовникам, «околице Коломенского». Навстречу мне шлепали по лужам редкие прохожие. Выбрать совершенно сухой маршрут было весьма затруднительно, так что единожды черпанув туфлем или ботинком жидкости из коварной лужи, в другие лужи люди уже входили смело – дважды промокнуть невозможно. Кто спешил на работу, кто, так же как и я, сопровождал своего «четвероногого друга». И казалось, что каждый встречный (ну, почти каждый…) мужчина пах болотом, сигаретным дымом и той специфической жидкостью, без которой, как говорят, и дождь не в радость… Так что запах «Кутузова» вливался в эти уличные запахи высоким, но гармоничным обертоном. Бяшка не пропускал ни одного ствола дерева, ни одного угла дома или колеса стоящего автомобиля – на каждом он оставлял или обновлял свою метку, гордо скособочившись и поднимая правую заднюю лапу. У последнего по ходу подъезда дома на лавочке сидели двое парней, разумеется, имевших вид «мокрых куриц», но, в отличие от оных, согревавшихся не бегом и квохтаньем, а содержимым стоявшей тут же, на лавочке, бутылки с какой-то отнюдь не кефирной по виду жидкостью. К ним бежал третий, весело, но и немножко обиженно голося: - А, вона вы где спрятались да обустроились! В уголочке, как евруи какие-то… Ему обиженно ответили: - И ничего-то мы не прятались… Сели на виду и тебя ждем… А ты сразу обзываться!.. С неба моросило, с деревьев капало, в голове стояли картинки то ли сегодняшнего «сна», то ли вчерашней «яви». Мысли крутились вокруг нашего последнего начинания и мне, бредущему за натягивающим поводок Бяшкой, вспомнилось, как мы с Владимиром Ивановичем примерно вот в такую же непогодь, но только весеннюю, а не осеннюю, ездили в небольшой городок Емельянов, что под Тулой. В Емельянове, под раскисшими небесами, мы с Владимиром Ивановичем нашли у заводчан автоцистерну в месяц какого-то органического слива (а это всего-то около тонны не очень качественной сажи с рентабельностью «плюс-минус 3%»), рабочую столовую с плохо промытыми перекореженными алюминиевыми ложками, памятник бойцам Советской Армии в виде гипсовой «Катюши» на гусенечном ходу и … скоростную трассу. На обратном пути по трассе мы, оседлав кортеж тамошнего губернатора Новодубцева, даже промчались минут 20 на скорости «далеко за 120» мимо постов ГАИ, возле которых стояли табунчики временно обездвиженных автобедолаг, прикованных к месту милицейскими жезлами. Жезлы обеспечивали проезд бывшего члена ГКЧП по вверенной ему на «кормление» губернии до границы с мошковской областью. После пересечения границы кортеж оторвался от нас и мы снова оказались в толпе «простых граждан». Остаток пути мы вспоминали подробности нашего вчерашнего дня и никак не могли прийти к согласию – был ли он успешным? «Производственная сторона» поездки не вызывала восторга – оказалась она явно скучной и не сулила никаких перспектив. Единственный «веселый» эпизод случился вечером. Мы зашли поужинать в новый ресторан, который открыли в Емельянове то ли «новые киргизы», то ли «новые казахи», но уж точно – не «новые русские». Зашли потому, что это было единственное действительно новое предприятие «общественного питания» в городе. Почему оно появилось – особый вопрос. Не вдаваясь в подробности скажу только, что, «по слухам», захолустный Емельянов в последнее время стал одним из заметных центров наркотрафика из Средней Азии в Руссию. Вот и организовали дельцы этакую «точку рандеву» для «своих». Кормили там вполне прилично и недорого – не эта составляющая «обмена веществ» человеческого организма с окружающей средой давала доход заведению. И заведение работало в соответствии с простым и понятным правилом: хочешь дури – будет тебе «дурь», а хочешь манты – получи полную тарелку. Однако, как оказалось, и дурь бывает не только наркотической. Когда мы с Владимиром Ивановичем приняли «под горячее» по рюмке «Абсолюта», принесенного нам в стеклянном графинчике «а ля 50-е годы», я почувствовал, что мир вокруг стал чуть-чуть иным… Я вдруг услышал музыку (а, интересно, раньше слышал и не обращал внимания, или её не было?), причем музыку знакомую. Звучала джазовая фантазия на темы «Кармен» для саксофона с оркестром Бекмамбетова. Где она звучала – у меня в голове или из ресторанных динамиков? Тогда я совершенно не задавался этим вопросом, но и сейчас не смог бы ответить на него определенно… И теперь, сидя за ресторанным столиком, я вспомнил, как слушал эту вещь в исполнении Анны Королевой и оркестра «Kremlin». И Королева была хороша, и ее саксофон раскрыл музыку Бизе-Бекмамбетова с новой стороны, но не это стало главной доминантой восприятия. Есть там у них один альтист!.. Джазовый ритм он не только чувствовал и выносил на публику положенной ему долей партитуры, но ещё и вводил непредусмотренную композитором, но очень эффектную партию ударника, исполняя её на собственном лакированном ботинке правой ноги. Вытянутый – по моде! – носок его концертного туфля в совершенном согласии с дирижерской палочкой Миши Рахлевского «держал ритм» виртуозно. Он буквально взвивался над сценой и, мгновение спустя, «стремительным домкратом» мчался вниз. Я был буквально зачарован и знакомой музыкой, и ее новыми смысловыми ветвями, привитыми к классическому «музыкальному тексту» Бекмамбетовым, и очаровательной саксофонисткой, и, конечно, этим дополнительным инструментом камерного оркестра. С первых же аккордов ностальгические чувства пробудили атавизм советского отношения к музыке и почему-то захотелось, подобно энтузиасту-речнику из «Верных друзей», крикнуть: «Хабанеру давай!». Но, предвосхищая этот порыв души, саксофонистка, поразительно похоже изображая своим инструментом голос Тамары Синявской, выдала мне такую Хабанеру, что слезы восторга подступили к глазам!.. И вот сейчас, в ресторане, эта музыка снова звучала у меня в ушах… Но кончилась одна музыка, и тут же зазвучала другая. Всё-таки это была, вероятно, специальная здешняя программа «под горячее». И Владимир Иванович вдруг попытался подпевать гремящей из ресторанных динамиков «Свадьбе» в исполнении Муслима Магомаева. Я почему-то нисколько не удивился тому, что не имевший никакого музыкального слуха Владимир Иванович начал слаженно и синхронно с Муслимом: По проселочной дороге шел я молча И была она пуста и длинна… Но тут память подвела Владимира Ивановича, он забыл слова и продолжал молча открывать рот в такт музыке, издавая обычное в таких случаях мычание. Я уже хотел было помочь Ктолину и вступить «третьим голосом», как возле нашего столика неожиданно выросла странная военная фигура. Нет, это не был «Пушкин в летном шлеме». Но возникшая фигура была не менее странной. Странность её заключалась в том, что фигура эта принадлежала ладной восточного вида широкобедрой женщине в красивом мундире – подпоясанном декоративным шартрезовым ремешком кителе цвета лягушки в обмороке и юбке чуть ниже колен, с лихо посаженной на голове береткой. В белых перчатках эта явно официальная дама держала какую-то бумагу. Строго взглянув на слегка ошалевшего Ктолина, дама спросила: - Известно ли вам, что это помещение относится к нашей дипломатической миссии в вашем Емельяновске и на ней действуют законы нашей республики? Мы, естественно, «были не в курсе», а потому отреагивали поначалу неопределенно-дипломатическим мычанием и меканьем. Но я быстро нашелся: - В нашем Емельянове действуют наши законы! А что там делается в каком-то Емельяновске, где, вероятно, по недоразумению, приютили вашу «миссию» - я не знаю. Даму это, впрочем, ничуть не смутило, и она продолжила: - Но это не имеет значения – «незнание закона не освобождает…» И тут же резко спросила: - Почему нарушаете? Владимир Иванович, все ещё не понимая ничего, ответил тоже вопросом: - Что нарушаем? Дама поднесла к лицу бумагу и прочла: «Указ Президента». Тут в диалог вступил я: - О чем Указ? Какого Президента? Дама повернулась ко мне, снова поднесла к глазам бумагу, и также четко, строгим голосом, прочла: - «О запрещении использования в стране фонограммы звуковой записи на песенно-музыкальных культурных мероприятиях, в том числе на свадьбах и семейных торжествах». Не знаю как, но я сумел не потерять чувства юмора и, хотя все ещё совершенно не понимал причин этой сцены абсурда, высокомерно сказал: - Ничего мы не нарушаем! Во-первых, мы находимся в городе Емельянове, а вы оскорбляете наше национальное достоинство, искажая исконное его историческое название. А, во-вторых, у нас тут не «песенно-музыкальное мероприятие», тем более – не свадьба и не семейное торжество. Или вы подозреваете нас в гомосексуализме? Тогда так и скажите! Мой отпор вызвал у дамы замешательство: … Да нет… Но он (указывает пальцем на Владимира Ивановича) ведь пел под фонограмму? - Пел! – сразу согласился я, - но пел во время делового ужина! А порядок проведения таких мероприятий регулируется другим Указом, вам, вероятно, неизвестным, с грифом «Для служебного пользования». Вы в каком звании? Дама смутилась и ответила негромко: Полициянын уссат ерли векили… Я продолжал наступать: - А по-русски? Она произнесла почти шепотом: - Мастер-представитель местной полиции… Я торжествовал: - Ну, конечно! Я просто не обратил внимания на ваш берет цвета блохи в родильной горячке … А Указ о регламенте делового ужина известен чинам не ниже полковника... Так что вам следует или извиниться перед нами за нарушение сообразного течения нашего мероприятия, или я сообщу о вашем промахе куда следует, и вы в наказание поедете охранять фисташковый лесхоз Бадхызского заповедника! Дама нервно икнула и залепетала «Извините, граждане Емель… Емуль…». Тут испуганная гримаса исказила ее лицо и она, неловко развернувшись через правое плечо, хорошим строевым шагом пошла прочь и исчезла за занавеской. Владимир Иванович с изумлением смотрел то на меня, то в сторону занавески. Я не стал его мучить: - Успокойтесь, Владимир Иванович! Я просто увидел, что на бумаге у нашей «Ерли векили» нарисована гридеперливая октограмма с пятиглавым орлом цвета последнего вздоха жако! - Ах, вот оно что! – облегченно выдохнул Владимир Иванович. – Он уже и в тульской глубинке нарисовался! Да, юркий папашка оказался, пронырливый даже... Ну, тогда, еще по одной - «на посошок» - и в гостиницу, спать «по полной программе»! Увидев, как удалилась от нашего столика «Ерли векили», официанты оставили всякие сомнения и принялись обслуживать нас серьезно. Один уже подносил спичку к погасшему во время нашего с ней разговора окурку «Беломора», который я автоматически сунул в рот, не заметив, что он давно холодный, другой подлетел, звеня фисташковым стеклом и выставляя у приборов чистые рюмки, лафитники и тонкостенные бокалы, из которых так хорошо пьется нарзан. Официант ловко открыл бутылку и в бокал как фонтан, вырывавшийся из щели в лавовом наплыве, ударила шипящая струя… Когда эта официантская суета утихла, мы выпили «ещё по одной». Мир снова как-то неуловимо странно изменился. Мы закурили. Поплыли клубы и струйки дыма цвета паука, замышляющего преступление. И – странное ощущение! – лицо Ктолина приобрело точно то же выражение, которое запомнилось мне по плакатику, увиденному однажды в курилке радиостанции «Эхо Мошквы» - Билл Гейтс улыбается и курит «косячок». «Беломор-канал» с шампанским - вот причина дыр в виндах»,- было приписано на плакатике чьей-то рукой. Ассоциация с фотографией Билла Гейтса была не случайной. На стойке бара стоял радиоприемник и как раз в это время по «Эху Мошквы» в новостях сообщили о блестящей победе нашей футбольной сборной над Порт-у-Галлией со счетом 7:1! Владимир Иванович – он был страстным болельщиком – ещё более оживился, с сожалением рассмотрел остатки жидкости в стоявшем на столе графинчике, а потом решительно расплескал их по рюмкам. Мы чокнулись, выпили за «наш триумф и Жору Ярцева», и – признаюсь! – не совсем твердой походкой направились к выходу. До гостиницы было недалеко, но в темную и слякотную Емельяновскую ночь и этот короткий отрезок пути хотелось преодолеть побыстрее. В ушах у меня снова зазвучала музыка. На этот раз – Перголези, «Stabat Mater». Причем в левом ухе пели две «воскрешенные к жизни» райские гурии – сопрано и меццо-сопрано, а в правом – два доморощенных кастрата «а ля Бернакки и Каффарелли», сопранист и контр-тенор. Эффект – как у Жванецкого от одновременного приема снотворного и слабительного. Но снотворное, кажется, было всё же сильнее… Владимир Иванович нетерпеливо поторапливал меня: - Юрий Александрович! Ну, идемте же скорее!... Ведь время пути вычитается из времени сна… А то марево, которое нас окружает, не кажется мне особенно приятным сновидением. Лучше мы с вами воспарим в какую-нибудь деревушку Жуан-ле-Пиньс… Или Панзу… Только не зовите меня в Экс-ан-Прованс – тамошние фонтаны нынешней осенью явно не ко двору… … Не знаю, то ли в графинчике кроме воды, спиритус вини и фирменной отдушки как-то оказались какие-то посторонние ингредиенты, то ли Земля, странствуя по просторам Галактики, в тот вечер попала в области Пространства с необычными свойствами, но утром я проснулся, ощущая сухость во рту, шум в ушах и с ясным воспоминанием о странном сновидении. В этом ночном мороке была вот какая озадачивающая особенность – дело происходило в хорошо известном мне месте в присутствии самого Ван Боока, но с необыкновенным обилием полностью посторонних людей с чеканно очерченными лицами, которых я видел в первый и, вероятно, последний раз, сопровождающих, встречающих, приветствующих меня и Ван Боока, надоедающих нам длинными и скучными рассказами о таких же, как они, незнакомцах, и все это в гуще людей, живых или мертвых, которых я знал запанибрата... А при расчете в администрации гостиницы я почему-то не досчитался в кошельке двух купюр с видами Старого Новгорода… … Бяшка в очередной раз встряхнулся, сбрасывая липкую влагу, и мы вошли в подъезд. По лестнице нас подгоняли два фактора. Бяшку – стремление утолить голод, а меня – предотвратить полное выгорание кастрюльки с оставленной мною на плите гречневой кашей. Цели наши совпадали, а потому действовали мы синхронно. И мне удалось спасти значительную часть Бяшкиного завтрака, а ему – с аппетитом ее уничтожить… О моих колебаниях относительно целесообразности выхода на работу, странной встрече с энтузиастом бега трусцой, обнаружении свастики на дверях нашего лифта, беседе об этом с охранником Борисом, а также о моем решении не нарушать расслабленности утренней атмосферы в нашем офисе. Я есть антифашист и антифауст. Их либе жизнь и обожаю хаос. Их бин хотеть, геноссе официрен, Дем цайт цум Фауст коротко шпацирен. Стучи и хлюпай, пузырись, шурши. Я шаг свой не убыстрю. Вообще-то сегодня я мог и не ходить на работу. Вчера – это я теперь вспомнил точно! – на коротком (из-за отсутствия основных «мужиков») «производственном совещании» я отпросился у Давида Ильича сегодня с утра съездить в Менделавочку на консультацию по поводу возможных теоретических выходов сажи из разных типов сырья. Отпущен я был неохотно: «У нас ведь тут не совковый институт. Мне все эти теории до лампочки. «Где деньги, Зин?»,- поется у Высоцкого. И я с Володей в этом любопытстве солидарен… Но раз вам нужно – поезжайте. Вон и Владимир Иванович у меня всё в Кремль просится… Тоже мне, «новый кремлевский мечтатель»!... А что там есть, в этом Кремле? Что там можно с выгодой купить или продать? Только «кремлевских окон негасимый свет»! А я ни воздухом, ни светом не торгую… Ладно, вы люди взрослые… Что я, в конце-концов, нянька какая-то, что б за вами смотреть?… Делайте как знаете… Только уж помните – и я не мальчик! Еду, еду – не свищу, а как наеду – не спущу!». Однако после сегодняшнего сна-морока не хотелось мне ехать ни в какой институт, а потому я решил ещё раз, как в былые годы, проявить «трудовой энтузиазм» и попробовать поискать счастья в «живительном слиянии с коллективом». Поэтому я шел на работу в обычное время, но, почему-то, по пустой, мокрой и хмурой улице, прикрываясь от колючего мелкого холодного дождика зонтиком и думал о том, что… Впрочем, назвать это состояние «думанием» было бы преувеличением. Просто в голове вертелись строчки из старой, любимой ещё со студенческих времен, песни: А всё-таки жаль, что кончилось лето, кончилось лето… Время бежит – не удержать, Но дело не в этом… И процесс «мышления» состоял в том, что после этой строчки я сам себе задавал один и тот же вопрос – а в чем же дело? И сам себе отвечал: «А всё-таки жаль…». Это означает, что сенсорный элемент сознания перескакивал в начало мелодии и процесс моего «мышления» описывал замкнутую траекторию. Впрочем, можно ли ожидать более качественного мышления в такую слякотную непогодь? Вдруг сзади раздались странные звуки – «Стучи и хлюпай» – как будто кто-то шлепал калошей по луже и потом растирал этой же калошей жидкую грязь по асфальту… Я не оглянулся, но насторожился. Звуки приближались, однако никакой угрозы я не ощущал и, дразня свое любопытство, решил не оборачиваться. Из-за спины у меня вынырнула странная фигура бегуна. Было ему на вид лет 70, а то и побольше, однако никакой одышки он явно не испытывал и дышал ровно и ритмично. Да что там! Бежал он просто красиво! Конечно, шаркающее шлепанье его подошв говорило о возрасте не меньше, чем морщинистая кожа лица, но жилистая волосатая фигура (а из одежды были на нем только какие-то «семейного покроя» до колен трусы из болоньевой ткани яхонтового цвета и кроссовки) вполне могла принадлежать и сорокалетнему его сыну. Чуть-чуть «подкачал» небольшой животик, но именно борьба с ним и была видимой причиной, побудившей, вероятно, его заняться бегом. Действительно же странным во всей этой мизансцене было то, что на всей улице не было никого, кроме нас с ним, и что бегун, пробежав рядышком, почти впритирку, совершенно не обратил внимания ни на меня вообще, ни на удивленное выражение моего лица. Своей невозмутимостью он как будто демонстрировал, что ничего удивительного в его поведении нет, что он уже много лет совершает здесь в это время свой моцион и привык делать это в любых погодных условиях и что он вообще не замечает никого на своем пути. Бегун-ветеран, пробежав ещё метров тридцать, завернул за угол. Я из непонятного любопытства отправился за ним, хотя это и задерживало меня в пути. После поворота асфальтовая дорожка пролегала параллельно Проспекту Юрия Петрофабриченского и упиралась в вестибюль метро. До него было метров 300. По дорожке навстречу мне шли прохожие, укрывавшиеся от дождя зонтиками, а вот в направлении вестибюля не шел – и не бежал! – никто… Я прикинул расстояние до вестибюля и понял: чтобы успеть скрыться там, бегун должен был по крайней мере повторить график рекордного забега Владимира Куца на олимпиаде в Мельбурне 1956 года! Не могу сказать, бывал ли Куц в наших краях, и бегал ли он когда-нибудь вдоль проспекта Петрофабриченского, но я готов присягнуть, что не видел его никогда ни ДО этой встречи, ни ПОСЛЕ неё! И я не припомню случая, когда бы в это время улица была столь же пустынной. И трусов, когда такой фасон был в моде, из такой ткани не шили – не было тогда такой ткани! Не знаю, что ощутили стражники во время первой встречи с тенью отца Гамлета, но я, похоже, описал свою встречу с тенью Владимира Куца или мираж, но настолько реальный, что до сих пор у меня перед глазами красивый бег в греческом стиле, а в ушах стоят эти завораживающие своей ритмичностью звуки: «шлёп-ш-ш… шлёп-ш-ш... шлёп-ш-ш…» В вестибюль я вошел минут на десять позже обычного. С зонтика текло не только у меня, а потому не удивительно, что в лифте на полу стояла не просыхающая лужа. Я немного припаздывал из-за странной уличной встречи (давно минули те времена, когда я стремился оказаться первым и успеть что-то сделать до прихода шефа, чтобы порадовать его новостью), так что лифт уже был относительно свободным. И я, пристраивая зонтик так, чтобы стекающая с него струйка не затекла в ботинок, поискал глазами какой-нибудь крючок. Крючка я, естественно, не обнаружил, а нашел… свеженацарапанное на дверях изображение свастики. Нет, это «не повергло меня в шок» - изломанный крест «сакрального символа» в последнее время все чаще встречается на стенах и заборах. Правда, рисующие его редко догадываются об исторических корнях этого семиотического изображения (они и слов-то таких – «сакральный», «семиотический» - как правило, не знают). Для них он именно свастика, в смысле «Бей жидов, спасай Руссию!». Но одно дело увидеть свастику на заборе стройки, где ночью не встретишь ни души и возможность «самовыразиться» легко осуществима, а другое – в лифте солидного учреждения, где на каждом этаже пост охраны. На вахте сидел круглолицый Борис. Судя по его виду, прошедшей ночью он вряд ли воспользовался по назначению – тяжелая сонливость делала его хмурым и неприветливым. Я понимал это, но все-таки спросил: - Вы видели свастику в лифте? Лицо Бориса чуть оживилось, и он ответил: - А, и вы заметили! Мне уже четверо об этом сказали… Я остановился. «Их бин хотеть, геноссе официрен…». Короче, хотелось понять – что же сказали эти «четверо» и что собирается делать охрана? Но просто так разговорить Бориса было нельзя – он явно «клевал носом» и был бы рад как можно скорее закончить разговор. Увидев, что я все ещё стою, Борис с досадой сказал: - И что вы все так всполошились? Ну, балуются какие-то мальчишки курьеры, надоело им «х..» писать, да и не реагируют уже на «х..», вот и перешли на новенькое… И радуются, небось, что их художества заметили. Я кивнул, давая понять, что понял его объяснение, и пошел по коридору к нашей двери. А за спиной у меня кто-то, только что вышедший из лифта, задал Борису тот же вопрос: «Вы видели, что в лифте на двери нарисовано?». В нашей комнате почти все уже были в сборе, а когда я вошел, никто не обратил на это внимания. Значит, заключил я с облегчением, я все еще работник фирмы и сегодня ночью мне действительно приснился сон. Я сел на место, включил компьютер, и огляделся. Елена Никоновна подшивала какие-то бумаги в новую папку, Мария Борисовна, нервно облизывая свои накрашенные помадой Freshed ginger губы, болтала по телефону (явно не по служебным делам), Анастасия Петровна что-то писала, сверяясь с экраном монитора, а Людмила Феофилактовна читала журнал с яркими фотографиями телезвезд! Такую картинку совершенно невозможно было бы представить ещё пару лет назад, да и сегодня она означала, что шефа нет и он предупредил, что задерживается (тоже ставший привычным факт нашей фирменной жизни). «Мужики» были в командировках, и в комнате отсутствовал только Владимир Иванович. Вот он никогда не предупреждал о своих задержках, но всегда находил для них вполне законные или приличные оправдания. К этому так привыкли, что в последнее время и спрашивать перестали, как это бывало в первые месяцы его работы: «Что случилось, Владимир Иванович? Опять прокол колеса или встреча в Администрации Президента?». А именно Владимир Иванович и был мне нужен, так что в ожидании Ктолина я с чистой совестью нырнул в Интернет – это было вполне адекватное действие для задуманного мной «слияния с коллективом». Во всяком случае, оно не нарушало гармонии общего ничегонелания… Об очередной встрече отца и сына Горошковых, их беседе о перспективах исторической судьбы Руссии, усилиях Филиппа Денисовича по формированию приемлего вектора развития страны, а также об особенностях употребления хорошего виски в начале трудового дня. «Ну что вы! Не хотите ли воды?» «Воды?» «А вы хотели коньяку бы?» «Не признаю я этой ерунды». Зачем же вы облизывали губы?» …«И это всё к тому, что оба суть одно взаимно значат». «Он, собственно, вопрос». «Ему – ответ». «Потом наоборот». «И нет различья». Мефодий Филиппович сидел в кабинете отца, читал оставленную ему бумагу, и пригубливал из дегустаторского коньячного бокала виски «Гленливет» Глентарретского завода, на этикетке которого была приписка – «Single cask malt». Отец давно обещал угостить его «настоящим виски» и вот сегодня, наконец, выполнил свое обещание. Мефодий Филиппович знал, конечно, что пить виски следует чистым или, в крайнем случае, разбавленным водой комнатной температуры. Однако – «не признаю я этой ерунды» – знал он и то, что даже «вонючее мурамное, лежащее под кроватью» может оказаться обыкновенной селедкой, ибо «мою селедку крашу в любимый цвет и храню где хочу». Из этого следовало, что и пить виски, и вообще делать все на свете лучше всего так, как тебе этого хочется. И, если у тебя есть возможность, то и делай именно так! Мефодий Филиппович, попробовав разные варианты употребления виски, утвердился в том, что выбрал правильный образец. Он взял пример с королевы Виктории – так же, как и она, запивал виски чаем. И, кстати, Мефодий Филиппович вовсе не пил, а именно пригубливал жгучий напиток, поскольку на часах было только десять утра и впереди предстоял длинный рабочий день. Поэтому, не отрываясь от текста, он брал бокал и подносил его к носу, ощущая букет запахов, состоявший из эфирных тонов сушеного инжира, сладких тонов шоколада, ароматных цветочных, мягких солодовых, терпких дымно-торфяных и самых любимых – масляно-ореховых. Он оценил качество отцовского угощения – в букете не ощущалось ни фенольно-лекарственных, ни древесно-плесеневых обертонов. Втягивая губами не более полунаперстка любимого напитка, Мефодий Филиппович сначала как бы «жевал» его, чувствуя, как во рту возникают ощущения элементов вкуса – на кончике языка сладость, на его середине – кислотность, а на задней части – горечь. И только после такого смакования глотал, наслаждаясь оставшимся во рту послевкусием – длительным, приятным и мягким. Для того, чтобы быть вновь готовым получить наслаждение, он «стирал» ощущения от предыдущего глотка виски двумя или тремя глотками крепкого горячего чая – разумеется, цейлонского «Ахмад» марки «Эрл Грей» английской фасовки. И, тем самым, обогащал восприятие следующего глотка виски легким ароматом бергамота, дающего ощущение свежести и – как утверждают медики – усиливающего зрение. И вот именно таким, «улучшенным зрением», он и читал распечатку, переданную ему отцом. Филипп Денисович Горошков хоть и разменял девятый десяток, все еще не «уходил на покой». «Приглашает на покой та, с костлявою рукой!»,- так с ухмылкой объяснял он сыну свое ежедневное присутствие в кабинете, который ему, как пенсионеру, вовсе не был положен, но который он все-таки получил. И не где-нибудь в лужковском новострое, а именно на Ходынке, «в родных пенатах», после того, как успешно провел операцию по «выдавливанию» и «нейтрализации» Гусиевича. Формально Филипп Денисович не числился даже консультантом и кабинет принадлежал не ему, а был одним из отделений ведомственного музея. «Я теперь работаю экспонатом музея своего кабинета»,- мрачно шутил Филипп Денисович. Но это положение отнюдь не тяготило его – оно позволяло, пользуясь всей технической мощью «конторы», разрабатывать и осуществлять те операции, сведений о которых не было даже в самых «сверхсекретных» отчетах. А попросту говоря – «рыхлить землю» на таких полях, плоды с которых начнут пробовать только внуки и правнуки. Именно по такого рода теме и была та бумага, которую читал Мефодий Филиппович. «Александр Нагорный: В самом начале нового тысячелетия стал очевиден Божий промысел, для чего-то создавший Всемирную Руссию. Ее границы расширились до пределов Ойкумены, хотя на первый взгляд видно только сокращение физических границ Руссийской империи 1914 года. Еще никогда в истории столь большое число людей русской (или в значительной мере русской) культуры не жило за пределами Руссии — в СНГ и по всему миру. На этих людей можно смотреть как на неупорядоченное «рассеяние», а можно и как на складывающуюся трансгосударственную корпорацию (ТГК) «Всемирная Руссия». Её сегодняшнее состояние можно охарактеризовать как малоупорядоченную совокупность малых и даже атомарных сообществ людей, говорящих и думающих по-русски либо даже просто хорошо понимающих русский язык. Общее у них — более или менее совпадающий культурный ресурс (духовные ценности могут совпадать, а могут и нет, могут быть даже противоположными). Упорядочить волю и энергию разрозненной русской диаспоры, ускорить становление ТГК — одна из самых продуктивных целей, какие только можно себе сегодня вообразить». Мефодий Филиппович отложил листки и задумался. Конечно, картинка, нарисованная Нагорным, выглядела привлекательно. Да и не может не выглядеть привлекательно рекламно-представительская часть бизнес-плана! А то, что эта записка была именно «бизнес-планом», не вызывало сомнения – Нагорный писал свою записку не «для отчета» или в качестве теста при борьбе за вакантное место. Он хотел действовать, и действовать широко – привлекать (и покупать!) журналистов, организовывать по всему миру съезды, конференции и симпозиумы, создавать партии и «общественные движения», в общем, «поднять волну», и на это ему нужны были деньги. А денег без одобрения Филиппа Денисовича ему здесь не дадут. Но реальное положение вещей было гораздо сложнее и не вызывало того энтузиазма, который явно исходил от нагорновской бумаги – сама возможность достижения «одной из самых продуктивных целей» была окутана туманом. Мефодий Филиппович вспомнил, как третьего дня, будучи в гостях на даче одного своего приятеля, он утром вышел прогуляться по улице этого небольшого, «чисто дачного» поселка. Погода была замечательная, типичное «бабье лето» с его немного усталым, но ласковым солнышком, легкий ветерок уже легко сдувал с деревьев вощаную листву и она мягко шуршала под ногами. На безлюдной улице было тихо и спокойно – поселок хорошо охранялся, поскольку в последнее время некоторые из его жителей «вышли в люди» и, хотя в целом он остался обычным «дачным кооперативом», среди хозяев появился даже один из членов лужковской администрации. Да и не заглядывали сюда чужие – незачем. На душе было благостно. Справа по ходу Мефодий Филиппович увидел пожилого мужчину, явно местного дачника, в старых спортивных «трениках» и с тяпкой в руках. Он прочищал от зарослей травы и крапивы водосточную канаву, тянущуюся вдоль его дачного забора. Мефодий Филиппович, поравнявшись с тружеником, остановился и сказал: - Здравствуйте! Бог вам в помощь! И это, столь естественное и искреннее движение его души, вызвало такую ответную реакцию, которая хотя и не была для Мефодия Филипповича неожиданной, но, тем не менее, мгновенно погасила наполнявшую его благостность. Мужчина удивленно поднял голову, как-то испуганно посмотрел на Мефодия Филипповича, но, не обнаружив видимой опасности, медленно и вымученно улыбнулся и ответил: - Спасибо, и вам того же! Вспомнилась похожая реакция прохожих, когда приходилось в незнакомом районе спрашивать дорогу. «Вот так мы и общаемся, - с грустью подумал Мефодий Филиппович,- от своей тени шарахаемся, катаемся по жизни, как капли ртути из разбитого градусника – каждая капля ищет свою щель и начхать ей на судьбу остальных! И это – на всех социальных уровнях. Накрывает ли районная милиция какой-нибудь бомжатник – его обитатели бегут, как тараканы, прихватив с собой все то, что можно унести. Идет ли «на беспредел» Генеральная прокуратура – картинка та же! Вот ведь когда теперешний израильский Президент был ещё нашим «опальным олигархом» и держал сухую голодовку в «Матросской тишине», и коллегам, и «собратьям» было на это глубоко наплевать. Они рвали его на куски – акции «Юкоси» шли в гору – и индекс биржи РТС достиг исторического максимума… А весь-то наш хваленый коллективизм, он же «исконная соборность» - книжный миф». И вот теперь Мефодию Филипповичу подумалось, что предлагаемый Александром Нагорным план похож на программу демеркуризации мировой цивилизации – очистку её от «руссийской ртутности». Но слабо верится в возможность успеха объединения «малоупорядоченной совокупности малых и даже атомарных сообществ людей, говорящих и думающих по-русски» за границей на базе такого же - если не более! - «атомарного сообщества» населения «метрополии»… Его размышления прервал приход отца – он вернулся в кабинет после отлучки не очень веселый. Филипп Денисович налил себе чаю и спросил: - Ну, как тебе идея? Только не будем говорить на «общие темы», меня интересует одно – можно ли этому голодранцу денег дать? Не промотает ли на Багамах с девками? Будет ли «в коня корм»? Мефодий ответил: - Да нет, отец, мне как раз хочется высказаться «в общем плане». Филипп Денисович не стал возражать и молча кивнул сыну. Но в его глазах промелькнула тревога и неуверенность. А Мефодий, получив разрешение, продолжил: - Я вот что хочу спросить… Ты сам-то, как думаешь? Мы, как народ, действительно всё ещё представляем собой «историческую общность людей»? Или – будем смотреть правде в глаза – «первый тайм мы уже отыграли», причем счет такой, что глупо надеяться на выигрыш – проиграть бы достойно, и на том спасибо… Филипп Денисович молчал. Было видно, что мысли сына для него далеко не новость, что и сам он порой мучился теми же вопросами, и приходил к тем же ответам, но… Но не мог он поверить, что мир устроен столь однозначно и что в нем действует Предопределение, а не Свобода! Хотя сама по себе Свобода, особенно в форме вульгарной Вседозволенности и Анархии, вызывала в нем чувства отторжения и активного протеста. Но ведь эти формы не исчерпывали глубины её содержания и Свобода творить Историю так, как он считал «правильным», как «должно быть по справедливости», оставалась в его душе источником энергии и жизненной силы. Оставался за рамками рассмотрения вопрос о том, что такое «правильность» и «справедливость», на чьей они стороне – его, всю жизнь боровшегося с интеллигентными и интеллигенствующими умниками, для которых «свобода слова», их личная свобода была альфой и омегой всего сущего, или Господь в своей неисповедимости направил его по пути, который в конечном счете должен был привести к чему-то третьему, четвертому или пятому?… Однако говорить всего этого он не стал. Он ещё раз внимательно посмотрел на сына и ответил: - Это мы все-таки обсуждать не будем. Не нашего это ума дело – знать, почему дорожка, по которой мы идем, не устлана ковром и не прямая, как стрела, а вьется чуть ли не ежедневными загогулинами и поворотами с перекрестками и ответвлениями незнамо куда, а через каждые пятьдесят - сто лет вообще закладывает такие виражи, на которых многие другие народы «вилэтают из седла»… Я не говорю, что мы такие одни. Вот евруи уже которую тысячу лет так идут, и ничего, не надорвались пока – вон их сколько кругом… Их немцы даже «дустом травили», а поглядишь вблизи на какого-нибудь Абрамовича или Гусиевича – и не скажешь, что из «богом обиженных»… А потом все-таки повторил свой вопрос: - Так отвечай, берем мы этого сукиного сына в свою команду, или нет? Мефодий помолчал, обдумывая слова отца. Его внутренний голос говорил ему, что, по большому счету, отец прав, что ни хвалебные оды, ни посыпание пеплом голов, производимые сейчас, сильно не влияют на то, что будет потом, причем чем дальше это «потом», тем влияние меньше. А вот для самого ближайшего завтра важно, в какой форме ты сегодня. И всегда лучше – если есть выбор, конечно! – поддерживать эту форму в рабочем состоянии. Однако следовало отвечать и на конкретный вопрос отца. И он ответил, как всегда перед отцом – честно и искренно: - А хер его знает! Он не глуп – это точно, но, как и всякий неглупый человек, плохо предсказуем. Но это уж закон природы – ум ветвится, а глупость стелется… Попробовать можно. Вот, хотя бы, на анализе нашего дурацкого опыта со свастикой – пусть подключается да анализирует статистику. Интересно, что он скажет. Самое главное – что для русских сейчас страшнее: новый Гитлер или новый Моисей, кого из них нужно раскручивать как страшилку, чтобы хоть как-то склеить эти… Мефодий заглянул в отложенные листы распечатки, и продолжил: - По его собственному выражению «малоупорядоченные совокупности сообществ»… Хотя я уверен – этот детский сад с игрой в статистику покажет однозначно: в глазах русских Моисей страшнее. Филипп Денисович полез в ящик стола, достал оттуда какую-то бумагу, надел очки, и, глядя то на Мефодия, то в бумагу, притворно возмутился: - Ты это брось – «дурацкий»…, «детский сад»… В том отделе три кандидата психологических наук разрабатывали эту методику «репрезентативного анонимного опроса жителей Мошквы» на предмет объективного анализа мнения электората по вопросам «исторической предрасположенности этно-политических факторов фашизма и сионизма к негативному развитию ситуации в Руссии»! А как изящно решена финансовая сторона! Никаких тебе дополнительных расходов - для пущей конспирации свастики в лифтах крупных фирм и учреждений царапают сами охранники и они же отчитываются о результатах – сколько, от кого и каких отзывов они слышат ежедневно. Заметь – охрана знает и своих евруев, и своих русских «в лицо», и графу «национальность» в отчете ставит уверенно, даже ничего не спрашивая у обратившихся к ним потенциальных избирателей… Мефодий с ироническим интересом слушал отца. Потом он достал сотовый телефон, нажал кнопку вызова и, когда адресат ответил, спросил: - Борис?.. Да, это я… Вот, « собственно, вопрос»… Скажи мне – что у тебя по программе «Семиотика»? Да, на данный момент… Некоторое время он слушал, а потом сказал: «Да, спасибо, понял…» и убрал телефон в карман. - Ну, и что? – с любопытством поинтересовался Филипп Денисович. - А ничего удивительного,- ответил Мефодий. – Как я и говорил – боятся евруев. Счет 4:3 в пользу «русских». Из десяти обратившихся сегодня с утра – три евруя, которые возмущались «беспечностью охраны» и четверо русских, которые - в разных выражениях – выразили одну и ту же мысль: тут пахнет то ли «масонским заговором», то ли «немецким католицизмом». И только один из этих четырех сказал, что «коричневые слишком уж задрали нос и если так пойдет, они на евруях не остановятся – всем нам достанется!». Трое оставшихся не встали ни на чью сторону – молча приняли объяснение Бориса о баловстве мальчишек-курьеров. Филипп Денисович покачал головой, и язвительно заметил: - Ага! По повелению, значит, Магистра Коломенской ложи и тель-анивского епископата. Союз евруев и католиков против православной нравственности… Он помолчал и серьезно добавил: Чутье на правду в народе есть, а вот образования – даже у «образованных»! – явно не хватает… А вот «простой народ» порой эту правду копает не хуже некоторых наших аналитиков. А уж заковыристее – точно! Вот послушай. Это запись одной нашей «фоновой прослушки». Мы поставили аппаратуру в местах скопления народа – на остановках транспорта, в залах ожидания вокзалов и аэропортов, в магазинах у кассовых аппаратов, на стадионе, в сберкассах, в метро, в крупных сортирах… Мефодий хохотнул: - Ну и как, сливают?.. Отец глянул на него строго и с укором, и Мефодий как будто поперхнулся: - Информацию, я имею в виду!.. Он почувствовал, что отец не принял его ерничества и посерьезнел. - Э!.. Балабол ты! Сортиры и спальни – это копи царя Соломона для разведчика! – сказал Филипп Денисович и, не говоря больше ни слова, вставил кассету в магнитофон. Он молча сел и приготовился слушать запись. Мефодий почувствовал, что отец слегка обижен, а потому, сделав глоток из своего бокала, показал отцу примирительный и благодарственный жест: большой палец, поднятый вверх – мол, классная вещь, спасибо тебе! – и тоже молча слушал уже пошедший из динамика шорох. Сначала послышался шум уходящей электрички, а потом чуть суховатый, но приятный голос произнес: - Это какая же убежала? Подольская? А чеховская скоро, мил человек? Ему ответил явно более молодой, но не юношеский голос: - Подольская… А чеховская через сорок минут. Но если очень спешишь – вот стоят «леваки». За сто баксов домчат до Чехова за час. Нет проблем! Были бы деньги, а колеса везде найдутся… Обладатель суховатого голоса понял, что ждать придется порядочно, а потому зацепился за слова молодого, чтобы скоротать ожидание в разговоре: - Да никуда я не спешу, мил человек… Куда спешить пенсионеру? В моем возрасте спешат только евруи – они, правда, и в твоем тоже спешат. Суетливый народ! Молодой тоже был не прочь побалабонить – он тоже, похоже, ждал именно чеховскую электричку: - Ну, ты сказанул! По твоему, если кто-нибудь спешит, значит он, конечно, жид? Так сейчас пол-Руссии спешат бабки делать – где ты стольких евруев видел? Пенсионер, однако, мнения своего не изменил: - Про пол-Руссии ты, мил человек, конечно, загнул, пол-Руссии никуда не спешит, копаясь в помойках и на своих шести сотках чтобы не сдохнуть от голода, а четыре пятых от другой половины горбатятся на тех, кто действительно спешит – евруев и их прихлебателей. Молодой вздохнул как-то обреченно, но, не имея другого собеседника, продолжил начавшийся диалог: - И везде-то вам, коммунякам, евруи мерещатся! «Если в кране нет воды…», у всех вас одно на уме – «…Значит, выпили жиды…». А у меня совсем другой ответ: «… Значит, с…дили деды!». Семьдесят лет мы растаскивали свою страну – кто на дачу, кто на клячу, кто болт, кто сена клок! И кто же это все коммуниздил? Русские, хохлы, грузины, чучмеки, татары, евруи… Да, конечно, и евруи! А почему нет? Все воруют, а они что – белые вороны? Не знаю вот, правда, по поводу чукчей… Нечего там вроде коммуниздить… Хотя, конечно, северный завоз… Ну, врать не буду – не был я там. А остальных всех «видел в деле» собственными глазами! А теперь оказалось, что это одни евруи нам нагадили! Суховатый голос воспринял эту атаку спокойно: - Нет, ты погоди, мил человек! Коммуняки и мне кровь попортили – тут раствор стынет, а прораб мне политинформацию про «акулу капитализма» впендюривает… Но я не воровал! Молодой его перебил: - И что, поклясться можешь, что каждый гвоздь, который ты забил в своей конуре и на шести сотках за последние полвека ты купил в магазине? И зайцем ни разу за это время не проехал на свою дачу? И даже, идя с отработки на овощебазе, ты по пути заходил в магазин за морковкой? Пенсионер ничего ему на это не ответил, а гнул свою линию: - А эти теперь не по гвоздику – заводы целиком прикарманивают, вышки нефтяные, яхты да самолеты такие, что куда там Форду или Круппу! И все «овичи», да «евичи»… Ну, и, конечно, Чубайс! Ограбил нас своими ваучерами и жирует теперь на энергетике, рыжая скотина! Разговор явно пошел наперекосяк – ты ему про Фому, он тебе – про Ерёму, никто друг друга не слышит, да и не хочет слышать. Оба собеседника поняли это и надолго замолчали. Магнитофон исправно тянул ленту, слышались чьи-то шаги, кто-то смеялся, но голосов не было. Однако Филипп Денисович его не выключал, а спокойно ждал продолжения. Мефодий тоже ждал, ловя ароматы из коньячного бокала. Наконец раздался голос пенсионера: - Ладно, мил человек, это все ерунда: живы будем – не помрем. На кусок хлеба мы всегда честно заработаем или наворуем у евруев. А вот что действительно страшно – ты послушай. Тут что вам, «дерьмократам», что нам, «коммунякам», может вмазаться так, что не отъикаешься! Ты думаешь почему американосы обо…лись 11 сентября? А у них ведь и техника и дисциплина, а как-то проворонили террористов? А вот вовсе и нет! Ничего они не проворонили! Тут предательство великое! Американовские евруи специально сговорились с арабами, чтобы те жахнули по Америке. Зачем, спросишь? А очень просто – после такого теракта Америка взяла себе право нападать на кого захочет и когда захочет – война, дескать, против терроризьма! И что им пять тыщ своих погибших – зато теперь весь мир дрожит перед американовской мощью! И к кому захотят, к тому и придут, если слушаться не будет евруйких их команд – вон тебе и Югославия, и Афган, и Иранк… И – помяни мое слово! – к нам придут за нефтью, никелем и алмазами. Если, конечно, порядок не наведем, да работать как следует не начнем! Молодой слушал не перебивая, а потом сказал: - Вот то-то и оно! Работать нужно как следует – это верно. Но как тут работать, если чуть в гору пошел – тут к тебе и прилетят! Или вы с горящими глазами: «Отнять! Переделить!», или сокол какой «государев» - силовик, налоговик, да любой чиновник! Или уж и вправду акула какая-нибудь (неважно – русская, американовская, евруйская) тебя заметит… Хвать пастью своей зубастой – и нет тебя… «Птичку жалко»… Из динамика послышался звук подходящей электрички, и Филипп Денисович выключил магнитофон. - Вот именно… Птичку, действительно, жалко. А вот что делать – пока не знаю. Мы ведь сейчас как тот чудовищный уроборос, который пожирает собственный хвост. Да не простой уроборос, а многоглавый. Правильно мужик сказал – плебс, чиновник и олигарх. Вот три главных головы этого змеюки. Мы его сами для себя орлом назвали, плебс из головы выкинули и сделали лапами – когтистыми да загребущими. И вот таким, двуглавым, хватким и когтистым, на герб свой и поместили. Но в жизни наш «орлуша» - змеюка злющая и глупая – и друг с другом эти головы цапаются до смерти, и себя же самого руками плебса рвут на части и жрут с хвоста. Филипп Денисович остановился как будто в нерешительности – стоит ли говорить дальше? Но потом решил – стоит! И сказал: - Я где-то читал, что есть такая волшебная цепь, на которой можно удержать любое чудовище. Ведь наше-то нам нужно удержать во что бы то ни стало! А то, что оставим внукам? Кур в ощип другим народам?... Цепь же эта и вправду дивная. Потому что скована она из шести вещей, каждая из которых в нашем мире - дефицит: из шума шагов кота, из женской бороды, из корня скалы, из сухожилий медведя, из дыхания рыбы и из слюны птицы… Ты что-нибудь слышал об этом? Мефодий знал, что отец – заядлый театрал и библиофил, но откуда он мог взять представление об этой чудесной цепи, представить себе не мог. Впрочем, знать о сокровенном и утаенном – профессиональный долг всех ясеневцев с Ходынки… И ответил, как и положено, честно: - Нет, такую сказку слышу в первый раз. Отец как будто ждал именно такого ответа. И торжествующе сказал: - То-то же! И я ничего не слышал и понятия не имею, что такое «шум шагов кота» или «слюна птицы» с материалистической точки зрения. Считается, что ничего из перечисленных «материалов» не существует в природе. А теперь – «слушай сюда», как говорят во временно оккупированной хохлами Одессе. Мы рождены – что б сказку сделать былью! И что бы там ни кричали наши безумные головы – плебс, чиновники и олигархи – мы цепь такую найдем и чудище наше успокоим. Хоть и дурное оно, но другого у нас нет. И сделаем из его зла – добро, раз уж больше его делать не из чего… После этого он помолчал, а потом добавил: - Но это уж твоя работа будет, да детей твоих. Я свое отбегал. Теперь и в пристяжные не гожусь… Так, детишек в колясочке по кругу прокатить – и снова экспонатом на музейную полку… Но не на всякую! Мне полагается храниться на самой узенькой и маленькой, той, где пребывают лица, которым не инкриминируют воровство, грабеж на большой дороге, жестокое обращение с детьми и животными, обманное получение денег, подлог, растрату, расхищение казны, злоупотребление общественным доверием, симулянтство, нанесение увечья, растление малолетних, клевету, шантаж, оскорбление суда, поджог, предательство, уголовщину, бунт на борту в открытом море, нарушение права собственности, кражу со взломом, побег из тюрьмы, противоестественные извращения, дезертирство из действующей армии, лжесвидетельство, браконьерство, ростовщичество, шпионаж в пользу врагов короны, самозванство, бандитский налет, непредумышленное убийство, умышленное и обдуманное убийство… Мефодий Филиппович слушал все это с возрастающим недоумением, и лицо его, по мере продолжения монолога, выражало все более явный испуг. Наконец, он не выдержал: - Бать, ты чего?! Филипп Денисович устало усмехнулся: - Не смотри на меня так испуганно! Не впал ещё в слабоумие твой батя… Это я вчера папочку архивную нашу случайно полистал. Дело каких-то В.Стенича и И.Романовича, взятых «органами» в 1937 году. Так это – из приложений к «Протоколам изъятия при аресте»… Лицо Мефодия Филипповича разгладилось, и он облегченно протянул: - А-а! Тогда понятно!... Филипп Денисович почему-то недовольно оборвал его: - Уж не знаю, что тут тебе «понятно»!.. Я так, например, до сих пор в толк не возьму, чем тогда эта белиберда была опасна настолько, что дали за неё «10 лет без права переписки»… И уже спокойно добавил: - Ладно, допивай свой самогон и иди работать – за Борисом тоже глаз нужен. Он, твой «придурковатый» Борис, ночами из Интернета не вылезает – приходит на дежурство как после пьянки-гулянки («Это точно,- подумал Мефодий, - это я за ним замечал…»), да и книжек у него «ученых»… Пол-квартиры ими завалил! Так вот, в каких-то квантовых дебрях он кое-что из дефицита для цепи вроде бы нашел – то ли женщину с бородой, то ли корень скалы. Но как бы этот дефицит не ушел «налево», в так называемую «гражданскую науку» - в наше время и не такие штуки на черном рынке всплывают. Вон у меня шифровка – какой-то охламон из бывшего нашего «Медицинского центра» предлагает америкосам «по сходной цене» пять тысяч доз токсина сибирской язвы – якобы для изготовления вакцины от рака… От всех скорбей получится «вакцина», если мы прошляпим… А я сейчас домой поеду – что-то подустал. Да и прошкандыбал сегодня я свой кружок в упряжке детской колясочки – пора и на полку. Ты не находишь?… Мефодий Филиппович втянул последний глоток «Гленливета», поставил бокал, и вышел из кабинета… Об обыденном течении рабочего дня в отсутствие шефа, моей находке в Интернете описания коллекции Джульсруда, соображениях по этому поводу, а также о прибытии Владимира Ивановича и обсуждении нами планов как текущих, так и более отдаленных перспектив использования рабочего времени. Неуместней, чем ящер в филармонии, вид нас вдвоём в настоящем. Тем верней удивит обитателей завтра разведенная здесь сильных чувств динозавра и кириллицы смесь. Как сказала мне Людмила Феофилактовна, шеф позвонил и сказал, что будет «после обеда». И все присутствующие сочли, что и им до обеда можно «слегка расслабиться» и заняться делами личными. Нет, разумеется, никакая это не была забастовка! На телефонные звонки отвечали грамотно и точно, сами по текущим делам «кого следует» и предупредили («Вы знаете, в Царицыне муфель лопнул, так что отгрузочку на денька три задержим… Спасибо за понимание!») и поругали («А как вы думали? Мы фирма солидная, не мышеловка какая-нибудь, бесплатного сыра не держим и воздухом не торгуем. Платите вовремя и мы не будем задерживать отгрузку!»). Но вот сверх того – «что б до кровавых мозолей на пальцах!» – диск телефонный не крутили и «спорить до хрипоты» о новых рынках и схемах бизнеса не стали. У Марии Борисовны ее «оболтус» сидел дома с гландами («У него, блин, – хронический тонзиллит и нужно быть очень осторожным, что б не запустить!») и она через каждые двадцать минут проверяла по телефону – не нарушает ли он предписанный «домашний режим» и как идет у него решение задач по алгебре. Анастасия Петровна, взявшись было за рассмотрение возможности использования перегонной колонны в Черногорске, вдруг вспомнила, что вчера вечером в клубе не вполне точно информировала некоего Гарика о своих предпочтениях в области скульптуры малых форм и теперь, подкрашивая губы помадой цвета Burgundy bliss, через подруг выясняла телефон Гарика, чтобы исправить свою оплошность. Людмила Феофилактовна по пути на работу купила «ну очень интересный журнал» и была увлечена подробностями «человеческой стороны жизни» телевизионных кумиров. На время этот интерес вытеснил из ее головы даже постоянные мысли о цветущих на даче розах, маргаритках и циниях. Короче, у каждого нашлось какое-то занятие «для души». И я не был исключением и «не отрывался от коллектива», когда погрузился в поиск свидетельств о «научных чудесах». Вскоре мне повезло, и я наткнулся вот на такое сообщение: "Эта история началась в июле 1944 года. Вольдемар Джульсруд (Waldemar Julsrud) занимался торговлей скобяными изделиями в Акамбаро - небольшом городишке примерно в 300 км к северу от Мехико. Однажды ранним утром, совершая конную прогулку по склонам холма Эль Торо, он увидел несколько обтесанных камней и фрагментов керамики, выступающих из почвы. Джульсруд был выходцем из Германии, перебравшимся в Мексику в конце XIX века. Он серьезно увлекался мексиканской археологией и еще в 1923 г. вместе с падре Мартинесем копал памятник культуры Чупикауро в восьми милях от холма Эль Торо. Позже культура Чупикауро была датирована периодом 500 г. до н.э. - 500 г. н.э. Вольдемар Джульсруд прекрасно разбирался в мексиканских древностях и поэтому сразу понял, что находки на холме Эль Торо не могут быть отнесены ни к одной известной на то время культуре. Джульсруд начал собственные изыскания. Правда, не будучи профессиональным ученым, он поступил поначалу очень просто - нанял местного крестьянина по имени Одилон Тинахеро, пообещав ему платить по одному песо (тогда это равнялось примерно 12 центам) за каждый целый артефакт. Поэтому Тинахеро был очень аккуратен при раскопках, а случайно разбитые предметы склеивал, прежде чем отнести их Джульсруду. Так начала формироваться коллекция Джульсруда, пополнение которой продолжили сын Вольдемара Карлос Джульсруд, а потом и его внук Карлос II. В конце концов коллекция Джульсруда составила несколько десятков тысяч артефактов - по одним данным их было 33,5 тысячи, по другим - 37 тысяч! Коллекцию составили несколько основных категорий артефактов: наиболее многочисленными были статуэтки из различных сортов глины, выполненных в техники ручной лепки и обоженных методом открытого обжига. Вторая категория - скульптуры из камня и третья - керамика. Самым примечательным фактом было то, что во всей коллекции не было ни одного повторяющегося экземпляра скульптуры! Размеры фигурок варьировались от десятка сантиметров до 1 м в высоту и 1.5 м в длину. Кроме них в составе коллекции присутствовали музыкальные инструменты, маски, инструменты из обсидиана и нефрита. Вместе с артефактами при раскопках были обнаружены несколько человеческих черепов, скелет мамонта и зубы лошади ледникового периода. При жизни Вольдемара Джульсруда вся его коллекция в упакованном виде занимала 12 комнат его дома. В коллекции Джульсруда было множество антропоморфных статуэток, представляющих почти полный набор расовых типов человечества - монголоидов, африканоидов, кавказоидов (в том числе с бородами), полинезийский тип и проч. Но не это сделало его коллекцию сенсацией века. Примерно 2 600 статуэток представляли собой изображения динозавров! Причем разнообразие типов динозавров вызывает истинное изумление. Среди них есть легко узнаваемые и хорошо известные палеонтологической науке виды: брахиозавр, игуанодон, тиранозавр рекс, птеранодон, анкилозавр, плезиозавр и многие другие. Есть огромное число статуэток, которые современные ученые идентифицировать не могут, в том числе и крылатые "динозавры-драконы". Но самое поразительное то, что коллекция содержит значительное число изображений человека вместе с динозаврами разных видов. Иконография изображений наводит на единственную мысль, что люди и динозавры сосуществовали в теснейшем контакте. Причем это сосуществование включало весь спектр взаимоотношений - от борьбы двух столь несовместимых видов живых существ до, возможно, доместикации динозавров человеком». Эта заметка – «сильных чувств динозавра и кириллицы смесь» – породила целый рой мыслей. Прежде всего, я сразу отверг версию о подделке. В то, что кто-то в Мексике придумал, сделал, закопал и потом откопал тридцать с лишним тысяч разных скульптур по цене 12 центов за штуку, я, сидя на своем кресле в коммерческой фирме, поверить не мог! Но если и вправду люди жили вместе с динозаврами, то логика предлагала такие варианты Истории. Первый. Эволюция человека гораздо длительнее, чем сейчас считается, и он уже в меловом периоде, а это около 100 миллионов лет назад, умел делать керамические скульптуры потрясающей выразительности (судя по приложенным к заметке фотографиям). Но тогда совершенно непонятно, чем же он, человек, занимался эту сотню миллионов (!) лет своей Истории? И почему, получив «от Прометея» огонь ещё во времена динозавров (а как без огня изготовишь керамику?) он так долго топтался на первых этапах технического прогресса? Второй. Эволюция динозавров гораздо длительнее, чем сейчас считается! И дожили они до времен синантропов и питекантропов, которые и освоили огонь по современным представлениям 200 – 400 тысяч лет тому назад. Но как могла возникнуть и успешно протекать эволюция млекопитающих при процветании динозавров? И почему динозавры вдруг вымерли уже в «историческое время»? Или и их, как мамонтов, уничтожили неандертальские браконьеры? Третий. А, может, это вообще «не наши» динозавры и люди? Но тогда уж точно они и не инопланетные. Опять-таки не поверю, что над Эль Торо в незапамятные времена разбился межпланетный грузовик с детскими игрушками или экспонатами выставки «творчества народных умельцев»! Тогда чьи же? Что, разве кроме нашего мира существуют ещё какие-то миры?! Ведь параллельные, перпендикулярные, малыя, белыя и прочая и прочая миры – это же чистая историческая фантастика?.. От этих головокружительных измышлений меня оторвал звук открывающейся двери – она у нас «пищит» перед тем, как отомкнуть электрозамок. На пороге стоял Владимир Иванович. На нем под расстегнутой кожаной курткой, лоснящейся от капель дождя, был новый фланелевый пиджак цвета маренго и, как всегда тщательно отутюженные брюки на пол-тона темнее. И если бы не скромное количество волос, которые он всегда тщательно и аккуратно, по старой армейской привычке, зачесывал назад, можно было бы сказать, что они были всклокочены. Но я не хочу преувеличений и скажу просто, без литературных прикрас – его прическа свидетельствовала о явной поспешности, с которой он преодолевал те из возникших на его пути трудностей, которые воспрепятствовали своевременному занятию им своего рабочего места. Владимир Иванович увидел меня, удивленно-радостно и, вместе с тем, виновато улыбнулся, и громко, что бы в случае прослушки Давид Ильич все хорошо расслышал, сказал: - Докладываю, Юрий Александрович! Гвоздь, проколовший шину и извлеченный из нее на шиномонтаже, лежит у меня в кармане и может быть направлен как на экспертизу, так и в мусорное ведро – как прикажете. А в Администрации Президента меня ждут только через два часа. Я ведь не знал, что вы сегодня будете, и пропуска для вас не заказал. Но это мы исправим за минуту! Я серьезно скомандовал: - В ведро! А с пропуском не торопитесь - на это нет руководящих указаний. Владимир Иванович, как опытный конспиратор, молча выразительно скосил глаза в сторону кабинета шефа. Я понял его вопрос и без слов: - Шефа нет. Он будет после обеда. Так что разрешение на поездку будем вместе испрашивать по телефону. После этого моего сообщения он улыбнулся ещё шире и уже без надрыва в голосе сказал: - А, в таком случае, не пойти ли нам перекурить? Поскольку никто из наших дам, занятых каждая своим делом, никак не отреагировал ни на появление Владимира Ивановича, ни на заданный им вопрос, я принял самостоятельное решение: - Совершенно не вижу причин отказать вам в этой просьбе! Действительно, почему бы двум благородным донам не посмолить да не посудачить? И мы отправились в курилку… Об упущенных возможностях делового применения вида из нашего коридорного окна, нашем с Владимиром Ивановичем обсуждении целесообразности визита в Кремль, деловом разговоре с шефом по мобильному телефону, а также о сравнительных характеристиках сигарет «Парламент» и папирос «Беломор - канал». О, как мне мил кольцеобразный дым! Отсутствие заботы, власти. Когда табачный дым вступает в брак, Барак приобретает сходство с храмом. Наша курилка расположена в конце коридора, перед выходом на лестничную площадку. Коридор заканчивается большим окном, фактически это – внешняя стеклянная стена высотного здания. И, если бы администрация хоть пару раз в год вызывала верхолазов для помывки окон, вид из торцевой стены коридора был бы прекрасный. Всё это можно было бы с помощью экскурсовода показывать гостям города по теме «Наша столица» (и иметь с такого бизнеса реальный доход!). Прежде всего – общий план. Это кусок набережной Мошквы-реки, на которой стоят красивые перваншевого цвета дома, которые к тому же являются памятником истории, ибо именно сюда, в квартиру «обычного рабочего», ещё в марте уже далекого 1985 года, только что избранный последний (кто ж тогда знал, что последний?) Генеральный Секретарь ЦК КПСС совершил свой первый «выход в люди», на встречу с «простым народом». И именно здесь его угостили дефицитными тогда кавказскими фруктами, здесь он говорил о социалистической перспективе нашей страны, беседуя с представителем класса-гегемона на фоне не менее дефицитного туркменского ковра… (Но если бы экскурсоводом был незабвенный Иван Александрович, то он бы не преминул сообщить любознательным экскурсантам, что был, правда, и ещё один Горбачев, который уже в 1984 году в генсековской манере общался с рабочими, что отражено и в интернете – «Картина «Встреча Горбачева с рабочими завода» - х/м, 140*180,1984г, цена - 4 тысячи лоллардов». После этой картины ее автор – краснодарский художник Виктор Чепурко – в 1985 году стал членом Союза художников СССР. И можно, конечно, теперь грешить на «опечатку в интернете», можно – на гоголевские фантазии, а можно просто сказать, что и в этом виноваты Пушкин с Чубайсом). А, кроме того, в окно была видна и перспектива метромоста, как раз здесь переходящего в тоннель, из которого и в который регулярно ныряют блокитные поезда метро. Такая перспектива является необычным ракурсом городского пейзажа и достойна быть экскурсионным объектом. Но, повторяю, если бы окно это помыли. А сейчас мелкие струйки осеннего дождя лениво стекали по плотной пыльно-маслянистой пленке цвета наваринского пламени с дымом, оставляя на поверхности мутные дорожки липкой грязи, и обо всех красотах, скрытых от взора стоящего перед окном курильщика-арендатора многолетними отложениями городского смога, можно было только догадываться… Мы с Владимиром Ивановичем остановились у окна и, поскольку, как я уже сказал, смотреть в него из-за дождливой хмари было не на что, сразу достали свои курительные «визитные карточки». Он – изящную пачку сигарет «Parlament», а я – теперь уже «ностальгический» для большинства курильщиков «Беломор». (По данным всезнающей статистики его курят только 3% курильщиков. Но ведь и за СПС вместе с «Яблоком» больше людей не голосует!). Закурили. «О, как мне мил кольцеобразный дым!». Владимир Иванович иронично усмехнулся: - Так вы, Юрий Александрович, ко всем вашим грехам, ещё и не патриот? «Кэнел» по-прежнему употребляете? Я знал эту байку – передразнивание исконно «наших» папирос названием американских сигарет «Кэмел» - и потому ответил со знанием дела: - Да нет, я-то как раз, хоть и либерал-рыночник, но и о пользе отечества не забываю! Вы знаете, что крупнейшим производителем "Беломора" сегодня является ленинбургская «Фабрика им. Урицкого», принадлежащая Japan Tobacco International? А ваш «Парламент» приходит к нам из Ленинского района Одессы, с завода радиально-сверлильных станков? Владимир Иванович внимательно рассмотрел пачку, которую он держал в руках, и сказал: - Да нет, тут написано «Made in USA»… Я отреагировал мгновенно: - На заборе вот тоже написано: «Ср…е кони». Так вы что, верите, будто за ним действительно стоят обмазанные фекалиями благородные животные? Все эти надписи – для лохов. А Одесса как была «мамой» для контрабанды, так ей и осталась… Да и подделка Одессе – не чужая дочь… А мой «Беломор» является ещё и идеологическим оружием. На границе Эстонии с Руссией из-за тамошней дороговизны процветает «табачная контрабанда». Едут в Печоры, покупают курево блоками, и «толкают» его в эстонских деревнях. А на «Беломоре»-то карта нарисована, где и Эстония, и Латвия, и Литва – части советской территории»! Так – верите ли? – целая компания прошла недавно в их газетах против… нет, не контрабанды, а «пропаганды имперских традиций»! Я даже название одной такой газетки для тренировки памяти выучил – «СЛ Ыхтулехт». И что любопытно, одно время стали выпускать «политкорректный» «Беломор» – с изображенного участка карты убрали линию границы. Но, с укреплением нашей «державной линии», все вернулось на круги своя и теперь «Беломора без границ» днем с огнем не найдешь! Я лихо «сломал» мундштук папиросы, превратив его унылый цилиндр в залихватскую, тщательно продуманную смятость голенища дембельского сапога, и мы закурили, взаимно «угостив» друг друга огоньком из зажигалок. У Владимира Ивановича она оказалась тоже новой и весьма оригинальной конструкции… Затянувшись, я спросил: - Так это вы для визита в Кремль новый пиджак надели и эту игрушку в карман положили? А что мы будем обсуждать в Администрации Президента? Возможность нашего участия в формировании «Байбалфинансгрупп» для участия в приватизации «Фуганскнефтегаза»? Так имидж Давида Ильича вряд ли таков, чтобы его можно было признать «авторитетным бизнесменом, известным физическим лицом, которое многие годы занималось бизнесом в сфере энергетики». Хотя, конечно, это как посмотреть… Ведь реально и авторитет есть, и годы, и энергетические проблемы нам не чужды… Но уж точно у нас – если судить по нашим последним зарплатам! – лишнего десятка-другого миллиардов рублей просто нет. А это гораздо существеннее… Владимир Иванович снисходительно выслушал меня, а потом с досадой сказал: - И-эх! И вы туда же… Ну, он-то – понятно!.. Он меня за солдафона отставного держит, ни слову моему не верит, но хочет понять уровень моих реальных связей и перехватить их. Но вы-то!... Не ожидал… Вы-то уж должны, вроде бы, понимать, что я не балабол какой… Что стратегические ракетчики, как и разведчики, не бывают «бывшими». Ну, да ладно… Вот сходим сегодня к одному моему сослуживцу в Никольский переулок, в Федеральное государственное унитарное предприятие "Кremlyn" Управления делами президента РФ (только не перепутайте с оркестром этого евруя Мархлевского или Рахлевича – уж не упомню как его…) – тогда и говорить будем… Сослуживец-то, конечно, дерьмо, даже сукин сын, если уж по совести говорить, но не в наших с ним старых счетах, не во мне ведь дело… За ним сейчас такой «административный ресурс» стоит! Я понял, что ирония моя действительно была неуместной, что, хотя Владимир Иванович и правда был склонен к некоторым «приукрашиваниям» своего облика, он в вопросах «деловой чести» приличную фору мог дать многим из наших, а уж, скажем, Илье Стефановичу, так и все «сто очков», и я попытался как-то «вырулить» из этой ситуации. Начал извинительно-примирительным тоном, сказав: - Ну, не обижайтесь, Владимир Иванович! Вспомните, как я вас в Емельянове от «Ерли векили» отбил! Уж нам-то с вами чего считаться!.. И, сразу переходя на деловые рельсы, спросил: - А, кстати, я тут листал какой-то бизнес-справочник, так там было сказано, что «Kremlyn» зарегистрирован на Овечниковской набережной. Вы не путаете адрес? А то ведь нам действительно ехать пора, а по такой погоде мотаться по разным улицам – не самое приятное дело? Владимир Иванович, как сразу стало ясно, не принял моих извинений и жестко сказал: - Ничего я не путаю! Вы же сами мне говорили про надписи. Что на заборе, что в «бизнес-справочниках»… Как говаривал Козьма Прутков, если на клетке слона написано «буйвол» - не верь глазам своим. А уж в том, что «приятель» мой сидит в Никольском, я не сомневаюсь ни секунды. В здание ЦК я ещё при утверждении на должность в ракетчики захаживал. А это когда было! А что он про себя в справочник пихнул… Так ведь даже ему «в случае чего» отмазка не помешает… Так что звоните шефу, а пропуск я вам закажу прямо на месте. И – едем! Я вспомнил, что, действительно, нужно ведь ещё получить разрешение на эту поездку, и мы, бросив в урну окурки, вернулись в рабочую комнату. Там все было по-прежнему. Белла Борисовна трещала в трубку («Ну как ты не можешь понять! Когда налево переносишь, знак нужно поменять!...»), Тамара Петровна хихикала («Ну, знаешь… И в малых формах порой скрывается большое содержание! Порой ведь только руки приложи – и малое становится большим!..»), а Лидия Федотовна, глядя на огромный – в разворот! – портрет Филиппа Пугачева, только эмоционально причитала («Вы посмотрите, каков гусь! Вот ведь, какой красавчик, а язык – что твое помело!...»). Я подошел к своему столу, вскользь глянул на монитор, где всё ещё стояла фотография одного из самых любопытных экспонатов джильсрудовской коллекции – скульптурки игры человека с ящером величиной с теленка – и решительно выключил компьютер. После этого я набрал номер мобильника шефа. - Ефим Васильевич? Здравствуйте, это Юрий Александрович вас беспокоит… Все разговоры в комнате сразу умолкли и женщины с интересом прислушивались ко мне. Точнее, пытались понять из произносимых мною слов, каково настроение шефа и скоро ли он появится? Я услышал в трубке вежливо-равнодушное: -Слушаю вас, Юрий Александрович! Вы где? В Менделавочке? Я ответил: - Нет, в Менделавочке сегодня нужный мне человек принять не сможет… Он нервно прервал меня: - Так вы дома?! Я понял, что его волнует и, закипев внутри, объяснил как можно более спокойным тоном: - Нет, Василь Василич! Я не в гостинице отдыхаю, не дома чаи гоняю, а на рабочем месте обсуждаю производственные вопросы с сотрудниками нашего коллектива. Он, видимо, осознал, что «перегнул палку», и уже примирительно и спокойно сказал: - Ладно, Юрий Александрович, оставьте ваши под…и и говорите по существу. Я продолжил: - Вот тут Владимир Иванович предлагает съездить к его знакомому во ФГУП «Кремлин»… Говорит, что мы там найдем поддержку по сажевому сырью и вообще… Обещает полезный контакт… Некоторое время я молча слушал, а все смотрели на выражение моего лица особенно внимательно – это был в данный момент единственный реальный источник информации о реакции шефа. Наконец, я сказал: - Хорошо, Ефим Васильевич! Понял вас. Конечно, будем… Передаю ей трубочку… И, обернувшись к Елене Никоновне, протянул ей трубку: - Вас! Елена Никоновна взяла трубку и бодрым тоном произнесла: - Слушаю вас, Давид Ильич! После этого она замолчала, слушая собеседника, и выражение ее лица стало меняться: из него как-то быстро улетучилась деланная бодрость, она посерьезнела, потом чему-то явно удивилась, взглянула на Владимира Ивановича, потом – на меня и, наконец, уже совершенно с другой интонацией – с какой-то странной упрямой покорностью – сказала: - Хорошо, Василь Василич! Все сделаю и все подготовлю. А в банке проблем не будет и Людмиле Васильевне я все потом объясню… До свидания, Василь Василич! Все молча ждали наших с Еленой Никоновной разъяснений. Я, обращаясь к Владимиру Ивановичу, сказал: - Добро получено, едем. Только велено обязательно вернуться и доложить не позже шестнадцати тридцати. Елена Никоновна, снова сделавшись непроницаемо-серьезной, вернулась за свой стол, раскрыла какую-то папку и обратилась уже ко всем: - Шеф сказал, что будет часам к четырем, что обедать можно идти, но не сидеть в кафе по два часа, и чтобы без него не расходиться… Было понятно, что она не договаривает чего-то очень важного, но эту информацию она все равно никому не скажет, так что и спрашивать было бесполезно. Переглянувшись – со значением! – женщины вернулись к своим делам, а мы с Владимиром Ивановичем надели плащи и пошли к выходу… О нашей поездке в Администрацию Президента, видах с мошковской набережной, аскезе современных VIP-персон, будничной деловитости Ивана Семёновича, а также о наивности моей самооценки. Дверь скрипит. На пороге стоит треска. Просит пить, естественно, ради Бога. Не отпустишь прохожего без куска. И дорогу покажешь ему. Дорога извивается… На улице по-прежнему дождило и было мокро и противно. Мы прошли на стоянку и Владимир Иванович, сев в машину цвета «Манхэттен», сразу включил обогрев. В машине быстро стало тепло и даже открытие окон – оба мы, естественно, сразу закурили – не испортило ощущения тепла и уюта. Владимир Иванович, видимо, тяготился моим молчанием, но любопытство свое сдерживал. Однако после третьей затяжки своим «Парламентом» он не выдержал: - Ну, таки что же вам сказал этот свадебный генерал? Какие «стратегические цели» обозначил? И что вашему шефу на этот раз не понравилось? Я же видел, как вы дергались при разговоре… Я спросил: - А почему это вы говорите «вашему шефу»? Вы-то сами что, не у него разве работаете? Владимир Иванович огрызнулся: - Не финтите, Юрий Александрович! Вы с ним «пуд соли съели», а я – «не пришей п…е рукав»!... Простите за непарламентское выражение… И уже спокойнее, но требовательно, повторил: - Так чего он хотел? Я рассказал, что шеф велел «посмотреть» человека, к которому мы идем, понять, что это за «контора» («Они же ведь сами ничего, кроме Указов, не производят. Откуда у них сырье для сажи?»), а если что-то там реально, то не мелочиться и меньше пяти цистерн не просить. Просил он также – и это меня насторожило – обязательно вернуться на работу и лично ему все доложить. А умолчал о том, что посмотреть мне было велено не только на «кремлевского человека», но и на то, как с ним будет говорить Владимир Иванович, нет ли тут сговора и измены, а если нет, то действительно ли «этот балабол и фанфарон в полковничьих погонах имеет там вес и может хоть что-то порешать». Владимир Иванович хмыкнул: - А ещё, конечно, и за мной велел «приглядеть»… На всякий случай! Ладно, все ясно, поехали! И он легко тронулся с места, вполне профессионально лавируя по лужам между стоявшими на стоянке машинами… В Центр по набережной мы ехали недолго – в такую погоду было меньше машин, да и время было самое «спокойное» - на работу все, кто ездит на машинах, давно приехали, а с работы уезжать ещё рановато. И я спокойно любовался своеобразной красотой Мошквы-реки, тянущимися вдоль нее по противоположному берегу промышленными зонами (даже клуб там был с названием «Zона»!), переходящими в исторические ансамбли Симонова монастыря, Крутицкого подворья и Новоспасского монастыря, резко обрывающимися комплексом гостиницы «Россия», которая доживает свои последние дни и уступает пространство собственно кремлевским красотам. На повороте с Варварки в Никольский переулок стоял шлагбаум и какая-то будка. Владимир Иванович отнесся к этому совершенно спокойно и припарковался чуть дальше, заехав при этом с полметра на тротуар. Я спросил: - А разве так можно? Он ответил: - Не знаю… Но делаю так всегда. Мент на гусара не нассыт, гусарский ментик защитит! Мы вышли из машины и пошли пешком. В будке никого не было, и в переулок мы прошли совершенно спокойно. Я удивился не тому, что в этом узком переулке, за шлагбаумом, стояло довольно много автомобилей – должны же сотрудники Администрации Президента где-то ставить свои машины! – а качественному составу техники на этой парковке. Судя по маркам автомобилей, их владельцы «не тянули» даже на средний класс, не говоря уж об ожидавшемся мною обилии VIP-персон. Недалеко от церкви я увидел даже какой-то старенький «Жигулёнок». Стало ясно, что эти «ребята» из Администрации в большинстве своем ещё очень далеки от «насыщения», а потому лямку свою будут тянуть круто, не обращая внимания на хрипы и стоны экономики, шею которой эта лямка плотненько обвивала… Мы вошли в какую-то стандартную дверь и оказались в проходной, которую охранял не мент, а военнослужащий с автоматом. Вероятно, из внутренних войск. В помещении было довольно сумрачно и выглядело оно не особенно презентабельно. А когда я увидел, по какому древнему телефонному аппарату Владимир Иванович сообщал кому-то о нашем прибытии, моё удивление ещё более возросло. Другого сорта удивление вызвал прошедший на выход мужчина с крупной, чуть рыхловатой фигурой, в котором я узнал Александра Петровича из Амгарска. На отрешенном его лице было написано гораздо больше озабоченности, чем удовлетворения. Чего он-то здесь искал? Если он все ещё в «Юкоси», то вряд ли поддержки в какой-то бизнес-схеме, уж, скорее, увидел я случайно куда этот крот нору свою прорыл... Возрастало мое удивление и далее, пока мы проходили по коридорам и поднимались по лестничным маршам, напомнившим мне живо то ли магнитоградскую, то ли салаватскую гостиницы с их подтёчными стенами, ободранным линолеумом и скрипучим паркетом. Но апогея оно достигло в комнате, где нас ждал для переговоров Иван Семенович Нюник. Комната за скрипучей дверью была небольшая – метров 15 – 18. У окна, выходившего во внутренний дворик, стоял стол хозяина кабинета. (« Дверь скрипит. На пороге стоит треска»). Само окно, со слегка облупившимися крашеными рамами и давно немытыми, как будто аквариумными, стеклами, не пропускало достаточно света, чтобы можно было быстро разглядеть поверхность стола. Да и расположен он был очень неудачно – вставший нам навстречу Иван Семенович закрыл своей спиной и так не очень яркий свет. Иван Семенович, оказавшийся вполне бесцветным пожилым мужчиной, в изначально, может быть, и хорошем, но явно «ношеном» костюме, приветливо и по-свойски улыбнулся Владимиру Ивановичу и сказал: - Ну, здравия желаю, полковник Ктолин! Экий ты фланелевый красавец стал! Проходи, Владимир Иванович, располагайся! Владимир Иванович прошел навстречу Ивану Семеновичу мимо пары составленных по длинной оси старых канцелярских столов, стоящих слева вдоль стены, и пожал протянутую ему руку. Хозяин кабинета вышел из-за своего стола и сказал, указывая на спаренные раритеты советских времен: - Садитесь! Поскольку вас двое, говорить удобнее будет там. Мы с Владимиром Ивановичем расположились на стульях у стены, а Иван Семенович сел напротив. Несколько минут Нюник и Ктолин обменивались новостями: «Ну, как дела?». «Да всё путем!». «А дочка как?». «Да в Англии она, только на втором ещё курсе». «Ну, тогда я понимаю – тяжело тебе ее тянуть!» «Да ничего, не жалуюсь!». «Ну, если выкарабкался тогда – теперь не пропадешь!». «А ты поможешь – снова загусарим!». «Нет, хватит хвост павлином распускать… Теперь скромнее нужно быть! К народу ближе…». «Ага! В пустой карман сберкнижек больше влезет! Особенно, если это карман в малиновом пиджаке». «Ты про малиновый забудь! Запомни -соловое теперь в моде!». Наконец, перешли к «деловому разговору». Владимир Иванович сказал: - Тут вот какое дело… Я сейчас в одной конторе научной работаю, вот с Юрием Александровичем, профессором химии (так он представил меня собеседнику). И наука наша утверждает, что из дерьма конфетку можно делать – из разных, значит, органических отходов великолепную сажу для шин и красок. Но все-таки не из воздуха – сырье нужно на заводе брать. Ты ведь курируешь Берлингуер? Или теперь итальянские коммунисты в городе имени их Генсека сами хозяйничают? Иван Семенович никак не отреагировал на последнюю фразу Ктолина, внимательно посмотрел на меня и спросил: - А что именно в Берлингуере вас интересует? Я ответил: - Там на заводе «Синтезкаучук» есть отход – «Абсорбент Б3 тяжелый». Он может быть сырьем для сажевого завода в Ильмазах. Но Берлингуер его как печное топливо продает в захолустные котельные – уж очень он вонючий. И там у них якобы уже и договоры все подписаны – зима ведь скоро! А наш проект позволит «не топить ассигнациями», как говорил Мендель Ейев, а «make money» - делать деньги, которые не пахнут, как говорят америкосы и древние римляне… Иван Семенович ещё раз пристально посмотрел на меня, потом на Владимира Ивановича, видимо, решая, с кем говорить, и обратился ко мне: - А сколько вам нужно этого абсорбента? Я, вспомнив наказ шефа, решил немного «погусарить» и твердо сказал: - Десять цистерн в месяц. Иван Семенович остался совершенно равнодушным к цифре и снова спросил: - А сколько могут «скушать» Ильмазы? В этот момент на его рабочем столе зазвонил телефон. Иван Семенович встал и, сделав извиняющийся жест – развел руки, как бы говоря: «Что делать! Я на службе!» - снял трубку. - Алло! Да, это я… А, здравствуй, Василь Карпыч! Как здоровье? Как там Волгла – по прежнему впадает в Балтийское море или ты ее уже в Иранк продал и на Каспий завернул? Не сердись – шучу!.. Да… Конечно, знаю!.. Хорошо, разберемся… Сделаю… Что?!.. А! Ну, так бы и сказал… Он положил трубку, вернулся, и весело объяснил: - Звонил Старовыйнов из Волглого. Обидели там его. Какой-то корреспондент с телевидения ОРТ что-то позволил себе лишнее в репортаже. Спросил, нет ли у нас выхода на ОРТ. А чего спрашивать? Если мне будет нужно, я и к Богу в рай на рюмку чая заскочить смогу! А просил Карпыч разобраться с корреспондентом. И обещал за это рюмку водки, старый жид!.. Правда, на закуску – бочонок осетровой икры. И после этого уже деловым тоном: - Ну, ладно, извините за эти пустяки. Так сколько примут Ильмазы? Пока игрался этот водевиль, я уже прикинул в уме возможности башкирцев и уверенно ответил: - Если дело хорошо пойдет, они запустят ещё одну нитку и смогут переработать до 30 цистерн. Иван Семенович достал сотовый телефон, нажал несколько кнопок, и сказал: Гуревич, это ты? Тебя Кремль беспокоит. Да не пугайся, это ж только я пока!.. Да, я… Ты вот что мне скажи, абсорбента тяжелого сколько вы в месяц на котельные сливаете? Сколько? Тыщу тонн? А больше можете?.. Ага, понятно… Ну ладно, все, отбой!.. Отбой говорю! До встречи – на следующий год в Ерушалайме! Ха-ха! После этого он пояснил: - Они могут и до полутора тысяч тонн сливать… Потом помолчал, тоже что-то прикидывая, и перешел к сути вопроса: - Вот что я скажу, Юрий Александрович! Мы не филантропы и помогаем только там и тем, где и от кого все же пахнет… деньгами, разумеется! Если вы докажете, что ваша наука не ошибается, и что делать сажу выгоднее, чем жечь в котельных абсорбент, вы получите абсорбента по цене котельного топлива столько, сколько захотите, хоть десять цистерн, но при условии, что ровно столько же ваши Ильмазы примут его и от нас. А вы вместе со своей, и нашу сажу пристроите. В ваш карман мы не полезем, а за труды по реализации заплатим комиссионные. Согласны? Тут в разговор вступил Владимир Иванович: - Я вот что хочу отметить, Иван Семёныч! Как говорится, война – войной, а кушать хотца! И реализация сажи вашей – дело не простое, сам понимаешь… Комиссионные для фирмы – не доход. Ну что там будет с этой сажи?.. На всех делить – только по тарелке размазывать… А я, да и наука в лице профессора Юрия Александровича, для одного процента с каждой тонны уж пустой карман в пиджачишке отыщем… Какой ты говоришь сегодня в моде – соловый? Так у меня как раз такой! Иван Семенович понимающе кивнул и чуть брезгливо бросил Владимиру Ивановичу: - Да ясно это! Решим мы этот вопрос как обычно… И, обращаясь ко мне, завершил разговор: - Так что поезжайте в Берлингуер, возьмите пробы, поколдуйте там в Ильмазах, и приходите ко мне с цифрами – что мы имеем с гуся… … Когда мы сели в машину, я спросил Владимира Ивановича: - А почему это вы для меня только процент попросили? Может, я пять захотел бы! И считался бы тогда «деловым человеком». А так вы меня просто «шестеркой» каким-то выставили перед Иван Семенычем и как будто яду в ухо влили – слышу, что убиваете вы мою репутацию, а сказать ничего не могу – мы ж партнеры, рядом сидим!.. Владимир Иванович укоризненно покачал головой: - Э-эх! Вы как ребенок, право слово! В бизнесе честность состоит не в выставлении на всеобщее обозрение дыр на рукавах пиджака, образовавшихся от сидения в позе роденовского мыслителя… Да не скажи я этой фразы, никто бы с вами через месяц разговаривать не стал. Здесь не понимают таких «ботаников» как вы, которые только по «белому договору» работают. И с такими «белыми» воронами дел стараются не иметь! А пять процентов – это от гонора вашего непомерного! Вон, сам Михал Михалыч – и тот только «три процента!» А вы – пять… «Скромнее надо быть», – помните, как сказал это Иван Семеныч? К народу ближе и – в соловом! Я тут же признал его правоту и поспешил извиниться: - А, понимаю, - сказал я, озираясь – нет ли где «длинного уха»? – вы нас убили, мы мертвы. Ах, как это умно! Как это во-время! Владимир Иванович посмотрел на меня слегка удивленно, но ничего не сказал и съехал с тротуара… О дальнейшем течении рабочего дня, проекте памятника советской женщине, найденной мною в Интернете новой теории мироздания Переслегина, воспоминании о колоритной встрече с новым Паниковским, а также об особенностях приема пищи непосредственно на рабочем месте. Перемена империи связана с гулом слов, с выделеньем слюны в результате речи, с Лобачевской суммой чужих углов, с возрастанием исподволь шансов встречи параллельных линий… Как оказалось, обернулись мы довольно быстро. Было только около трех часов, шефа ещё не было, в комнате сидели только Лукерья Федоровна да Елена Никоновна – ни Петровна, ни Борисовна с обеда ещё не возвращались. Но, судя по чистоте урн и протертости стекла моего монитора, побывала тут во время нашего отсутствия наша уборщица, Тамара Никифоровна. Лукерья Федотовна как раз в этот момент читала для Елены Никоновны статью из купленного ею журнала: - «А любопытно, какова вероятность того, что где-то на пост-советском пространстве кто-то додумается установить памятник Советской Женщине? Не Родине-Матери (таких у нас несчетное количество), не «спортсменке-комсомолке-отличнице-красавице» (этих «девушек с веслом» тоже было достаточно) а просто Женщине? И как он может выглядеть? Давайте вместе пофантазируем. Конечно, это – бронза. Сплав из металла отмененных в 1991 году советских копеек, которых так недоставало Женщине в той жизни, стреляных ружейных и артиллерийских гильз, несчетное количество которых прошло через ее руки и в годы войны, и при подготовке «сокрушительного ответа империалистическому агрессору», а также из «цветного металлолома», собранного ею самой и ее детьми за все «счастливые школьные годы». Понятно, что в руках у нее не меч, не щит и не весло, а сумка, сетка или кошелка. И рук-то у нее не две, а, по крайней мере – семь. В одной, значит, хозяйственная сумка. Другой она гладит по головке ребенка. Третьей – чистит картошку. Четвертой – стирает в корыте мужнины трусы. Пятой – забивает костыль в железнодорожную шпалу. Шестой, с книжкой стенограммы XIX партконференции, голосует за политику партии и правительства. А уж седьмой, самой маленькой, принимает от мужа ветку мимозы в день 8 марта… А сколько ж у нее ног? Ясно, что одна из них будет здесь, а другая – там. Это уже понятная и очевидная динамическая доминанта. Третья – в очереди за «мясным рагу б/м», четвертая – в школе на родительском собрании, пятая – на «шести сотках» давит колорадского жука, шестая – на субботнике или праздничной демонстрации, а вот уж седьмая, маленькая и изящная, в туфельке-лодочке, то ли на танцах, то ли в театре. Грудей, естественно, три. Как и у марксизма, у нашей женщины должны быть три животворных источника. Одну грудь сосет писающий младенец-внук, сын неизвестного отца и немножко гулящей дочери (Почему «немножко» - понятно, ведь настоящего «секса в СССР нет!»). К другой припал курчавый мальчуган с явно африканскими чертами, символизирующий нашу «бескорыстную помощь угнетенным народам», а третья, закрытая холщовым лифчиком на брезентовых бретельках – аллегория наших стратегических запасов на случай ядренной войны. А вот голов – две. Одна покрыта «скромным платочком цвета «Гаити»», который должен изящно «падать с опущенных плеч», а другая – оренбургским пуховым платком. Последнее – пуховый платок – конечно , будет художественным преувеличением, но на него имеет право «волшебная сила искусства». Тут, конечно, предстоит решить и чисто художественную задачу – как средствами литья передать «этот вьюжный неласковый вечер, когда снежная мгла вдоль дорог…»»… Здесь Лукерья Федотовна оторвалась от текста и задумчиво сказала: - Хоть и балабонит журналист, а, ведь, по сути, всё это правда. И я бы даже сейчас тащила бы эту сумку на нашу дачу-клячу и настроение моё было бы под стать, потому что встала бы я уж точно не с той ноги, которая в туфельке, а с той, которая в калоше для борьбы с колорадским жуком… И добавила, «со значением» посмотрев на нас с Владимиром Ивановичем: - Если бы, не приведи Господь, не работала здесь... Владимир Иванович уже начал «хлопотать по хозяйству» - пошел ставить чайник, стал искать нож, чтобы порезать колбасу, и вообще – взял на себя подготовку к «приему пищи в полевых условиях». А я снова засел за компьютер и уже через пять минут меня было «за уши не оттащить» от только что найденного мною файла http://okh.nm.ru/materials/Pereslegin/Per_AlterHist.htm: Мы попали не в ту историю С.Б. Переслегин Статья из Огонька. No 27, 1999 Первый набросок этой теории был сделан году в восемьдесят пятом. Тогда я занимался общей теорией систем и применял основные положения этой науки к самым разным объектам и процессам. Соответственно возникла мысль рассмотреть науку историю как самоорганизующуюся систему и уяснить, что из этого получится. То есть предположим, что такой науки не существует и никогда не существовало. Придумаем ее заново! Довольно быстро удалось построить описательную часть исторической науки и добраться до классических теорий, которые все выделяли некий базис (экономика в марксизме, архетипы в модели Юнга, бессознательное в зоопсихологических концепциях). Дальше началось самое интересное: когда я стал записывать в математическом виде влияние базиса на надстройку и обратно, когда удалось вывести формулы течения истории, получилось по виду такое же уравнение, как уравнение Шредингера в квантовой механике! Физики поймут мои чувства. История действительно оказалась виртуальной. Впрочем, физикам это не так удивительно, как всем прочим. Они давно привыкли, что электрон летит как бы по ВСЕМ возможным траекториям одновременно. И людям остается лишь высчитывать вероятность того, где именно он находится в данный момент. Так устроен странный мир элементарных частиц, как его описывает уравнение Шредингера. А из этих непредсказуемых микрочастиц сложен наш «большой» мир. Чего ж удивляться? Если в истории действуют уравнения Шредингера, значит, история идет ВСЕМИ путями одновременно. Мы лишь можем посчитать вероятность той или иной реальности. И принять наиболее вероятную. Или ту, которая больше по вкусу. Квантовой механикой классическая траектория частицы рассматривается просто как наиболее вероятная из мириадов возможных. Значит, в «квантовой истории» привычная нам историческая последовательность событий из учебников трактуется всего лишь как совокупность наиболее вероятных событий. Однако делать какие-либо выводы из изучения только этой совокупности нельзя! Для того чтобы выделить реальные закономерности исторического процесса, необходимо описывать и другие (в идеале – все) возможные альтернативные истории… История из описательной науки окончательно превратится в точную. Значит, ни в коем случае нельзя отмахиваться от любых трактовок и интерпретаций исторических документов, потому что любая интерпретация – верна в какой-то из реальностей. Например, Золотая Орда и была, как говорит классическая история, и одновременно ее не было, о чем нам поведал академик Фоменко. И тогда получается, что разные реальности не просто существуют независимо друг от друга, а каким-то образом взаимодействуют – ведь информация из «разных» историй до нас доходит! В виде текстов и тех же интерпретаций… С общенаучной точки зрения вероятностная история является таким же естественным развитием и обобщением истории классической, как физика квантовая стала развитием физики классической, ньютоновской. Вероятностный подход, конечно, не обесценивает работу, проделанную поколениями историков-профессионалов и летописцев-любителей. Пусть текущая реальность – не более чем одна из множества всех последовательностей событий. И все же... И все же есть разница в подходе историка-вероятностника и классического историка. Например, для вероятностника наша жизнь или жизнь общества – не стрела, протянувшаяся от рождения к смерти, а произвольная кривая на плоскости событий. Человеческое сознание не способно воспринимать все исторические последовательности одновременно. Только одну, свою Реальность и иногда – ближайшие Отражения. Но модель вероятностной истории не запрещает менять одну Реальность на другую. Причем каждому конкретному человеку. В этих словах нет ничего иносказательного, никакой символики. Их надо понимать самым прямым и непосредственным образом! Смена Реальности в вероятностной истории есть аналог туннельного эффекта в физике и описывается теми же уравнениями. Да-а… Так вот оно в чем дело! «Перемена империи связана с гулом слов!». Вот откуда берутся «игры с динозаврами», куда пропадают нужные бумажки и откуда приходят «счастливые случайности» - из вероятностных историй через туннелирование!.. Переслегин пришел к формулировке квантовой картины мира, исходя из Истории. А вот интересно, нет ли движения по «встречному пути»: от «классической квантовой механики» - к Истории? Я об этом ничего не слышал, хотя, конечно, и не являюсь специалистом. Но вот книжку про Бора читал. И если бы в квантовой механике было что-то подобное, Бор наверняка бы об этом знал и в его подробнейшей биографии такую тему не обошли бы… Я ещё раз залез на этот сайт и увидел, что невнимательно скопировал текст. Было там ещё два абзаца, с очень важным разъяснением: «Каким же образом отдельно взятый человек может перейти с одной исторической последовательности на другую (желательно более комфортную для жизни)? Очень просто. Своими решениями и поступками мы либо утверждаем сделанный выбор, либо ставим его под сомнение. Конечно, текущая Реальность обладает некоторой устойчивостью, она сопротивляется и не отпускает. Но эта устойчивость не безгранична. Если сомнения перейдут некоторое пороговое значение, которое в каждом случае свое (но которое можно просчитать количественно), то Реальность сменится скачком. В этот момент обществом будет потеряна одна История и обретена совершенно другая. Мир вокруг нас изменчив; подобно хамелеону он демонстрирует нам такое прошлое и будущее, которые соответствуют нашему мировоззрению, настроению, погоде на улице... Человек сам выбирает свою историю, но очень редко он делает это сознательно... потому мир и выглядит так, будто им управляют похоть, голод и страх. Дальнейшее развитие вероятностной модели истории, видимо, даст ответ на важный для каждого вопрос: «Как, каким образом можно СОЗНАТЕЛЬНО сменить одну текущую Реальность на другую? Наверное, это будет хорошо просчитанный комплекс действий, причем для каждого человека – свой. Наверное, для перехода в «дальние» Отражения, которые очень сильно отличаются от нашего мира, это будет сложный комплекс, вплоть до каких-то конкретных и на первый взгляд необязательных поступков. Но если знаешь цель и путь известен, то ведь можно попробовать, не правда ли?». Судя по тому, что сам Переслегин оставался пока в «нашей Реальности», ему не удалось найти такой «хорошо просчитанный комплекс действий», поскольку я не сомневаюсь в том, что нашедший тропинку в «иные реальности» непременно воспользуется возможностью попасть в мир своей мечты. А то, что наш мир не является таковым для Переслегина, думаю, и обсуждать не стоит! Из прочитанного следовал один неожиданный оптимистический вывод: поскольку мы не в состоянии обозреть все возможные варианты жизненных «развилок», любое, самое неприятное, печальное, глупое и даже трагическое событие, которое с тобой происходит, может оказаться элементом «сложного комплекса на первый взгляд необязательных» поступков и событий, которые в конце концов приведут к миру мечты. И мой сегодняшний утренний морок тоже может быть элементом такого комплекса! И ещё мне подумалось, что у Переслегина обязательно должны были быть предшественники – воистину ничто не ново под Луною! И я вспомнил, что в одной из недавно прочитанных мною книг было сказано, что англичанин Уолтер С. Лэндор ещё в XIX веке написал серию эссе «Воображаемые разговоры», в которых герои древней истории и литературы вели между собою беседы на темы XIX столетия. В этот момент я осознал, что меня зовет Владимир Иванович: - Юрий Александрович! Да бросьте вы всю эту дребедень! Скажите лучше, что приличные люди едят на скорую руку? Я с минуту пощёлкал клавишами и сказал, читая с экрана: - Штабеля нежно хрустящих сэндвичей (правильных прямоугольников размером два дюйма на пять) или канапе (тоже самое, но меньших размеров), смуглую тушку индейки, русский черный хлеб, горшочки со свежей зернистой икрой, засахаренные фиалки, крохотные тартинки с малиной, полгаллона белого гадсонского портвейна и столько же цвета шарлах… Владимир Иванович ухмыльнулся: - Да… Аппетитная смесь французского с нижегородским! Любят буржуи рашен бред, если на нем – кавьяр… Это кто там так губы раскатал? Сартр? Камю? Я-то ихних писателей все больше по коньякам изучал… А потом добавил: - Ну, а мы пока вернемся на грешную нашу землю… Чайник вскипел и колбасу я порубил. Если сейчас ее не съесть, Елена Никоновна съест нас за разведение «антисанитарии на рабочем месте», а Лукерья Федотовна ей поможет! Я оторвался от монитора, успев все-таки переслать статью Переслегина на адрес своего домашнего компьютера. Нужно будет вечером посмотреть ее внимательнее! Оглядев комнату, я по-прежнему не обнаружил ни Татьяны Борисовны, ни Елены Петровны. А сидевшие за своими столами Лидия Федотовна и Елена Никоновна тщетно изображали полное равнодушие к подначкам Владимира Ивановича. Обе вообще выглядели как-то внутренне закрепощено и неестественно. Видимо, это было связано с тем разговором, который произошел перед нашим отъездом у Елены Никоновны с шефом. Ни нам, ни Татьяне Борисовне с Еленой Петровной она, разумеется, ничего не сказала, а вот с Лидией Федотовной наверняка поделилась, когда «эти вертихвостки» убежали в кафе, а мы с Владимиром Ивановичем уехали в Кремль. Я подсел за стол Владимира Ивановича и мы приступили к «пропущенному обеду», с большим аппетитом почти одновременно впившись зубами в приготовленные им бутерброды, которые представляли собой «сиротские» по толщине кусочки хлеба (резаный «Бутербродный» из полиэтиленового пакета) на которых лежали сантиметровой толщины кружки колбасы… - Я тут нарушил, конечно, правила сервировки, так складно описанные у вашего Рабле, - едва прожевав первый укус, и потому не совсем внятно произнес Владимир Иванович,- канапе не получились как на картинке в журналах «Gala» или «Гастрономъ», но уж извините!.. Мы ведь не на посольском фуршете, не в кремлевских палатах, а в родных стенах! Он повернулся к Елене Никоновне и вдруг серьезно спросил: - Или уже нет? Елена Никоновна в это время говорила по телефону и не расслышала (может быть…) обращенных к ней слов. Владимир Иванович не стал дожидаться ответа и снова обернулся ко мне. Мы запили первый бутерброд чаем, и Владимир Иванович уже совершенно внятно сказал: - Но не это главное мое нарушение. Как говаривала во время обеда одна старушенция в моем детстве (на нее порой оставляли меня как на няньку): «Хлебушка-то побольше, а колбаски-то – поменьше, оно и сыте будет!». Но, думается, в реконструктивный период перехода к капитализму произошла инверсия статуса колбасы и хлеба! Он хлопнул в ладоши и радостно добавил: - А не зря я с вами повязался! Вон какую фразу завернул и даже падежей не перепутал! А, попросту говоря, я со слепу прицел на ноже не тот взял – вот и получилась колбаса не кусочками, а шматками… Ну, да что с пенсионера взять!.. Его военный образ «прицел на ноже» и ссылка на слепоту, вызвали у меня в памяти забавный эпизод. …Вагон электрички был полупустой. Середина летнего дня – те, кто поедет на дачу вечером, ещё работают, а в вагоне публика либо «за шестьдесят» - пенсионеры, либо «до 25» - студенты на каникулах. Справа от меня, у самого прохода, сидит симпатичная девушка и деловито балуется со своим сотовым телефоном – смотрит по Интернету какие-то картинки. Из тамбура появляется жалкая и нелепая фигура с протянутой рукой – вагонный попрошайка. Фигура стоит в начале вагона и, как мне кажется, зорко рассматривает скамейки – прикидывает, откуда можно надеяться на подаяние, т.е. где нужно остановиться и «нажать» на клавиши жалости. Нагловатое выражение лица с пухлыми, на выкате, как бы обиженными детскими губами у мужчины еще «вполне в соку» (лет 40, не больше), конечно же, вызывает позыв достать кошелек, но и отталкивает – хочется отвести глаза. Оценив диспозицию, попрошайка двинулся по проходу, что-то негромко бормоча – слышно только тем, кто находится рядом. Попрошайка движется медленно, вытянув вперед левую руку с ладонью, раскрытой для приема подаяния, а правую, полусогнутую в локте, отведя в сторону – как бы для ощупывания возможных препятствий. Он останавливается почти у каждого ряда вагонных скамеек. (Призыв должен быть услышан и воспринят. Да и на сам процесс передачи мелочи при такой тактике нищего уходит довольно много времени). Когда проситель остановился у нашего ряда, я услышал его призыв: «Подайте слепому на пропитание…». Внутренний голос усмехнулся – ««Косить» под Паниковского нужно уметь! Не верю!». Но тут я поднял глаза и увидел, что на глазах у плаксивой физиономии с детскими припухлыми губами были… огромные бельма! Сидящая рядом со мной девушка, с губками, накрашенными помадой цвета наив роуз, по-прежнему нажимала кнопки и, упершись взглядом в экранчик дисплея, никак не отреагировала на слова попрошайки. Постояв несколько секунд, он двинулся дальше, не изменив ни выражения лица, ни положения рук. И уже на втором шаге его правая ладонь с чуть согнутыми «чашечкой» пальцами легла точно на правую грудь моей соседки! Девушка дернулась, как от удара током, негодующе хмыкнула, удивленно и сердито вскинула голову, но, увидев слепые бельма, тут же смущенно вернулась в прежнее положение. Она явно раскаивалась и в своем негодовании, и в том, что не подала вовремя «копеечку»… Выражение же лица «Паниковского» сыграло целую серию немого кино – сначала оно сделалось недоуменным, потом – на краткий миг! – глумливым, и, наконец, вернулось к обычному своему обиженному состоянию. Но, судя по тому, что он не извинился, он либо не понял, что произошло, либо, наоборот, понял все точно и очень быстро, а промолчал потому, что посчитал этот случай бонусом, дополнительной наградой за свои труды и, одновременно, достойным наказанием девушке за скаредность. У меня этот случай оставил двойственное впечатление. Если попрошайка «косил под Паниковского» (как продолжал считать мой внутренний голос), то девичья грудь могла быть целью, намеченной им ещё при определении диспозиции от тамбура, а если он и вправду был слепым, то поражает щедрость психологических проявлений этого «слепого случая». Но самое главное – я так и не могу сказать, когда мои глаза отобразили истину – при рассмотрении глазастого попрошайки у тамбура вагона, или – при взгляде на его бельма? Да что там бельма! Вот спроси меня через полгода – где находится курилка в НИИМотопроме? И, пожалуй, я «поплыву» - а ведь буквально по десять раз на дню я там бываю! Конечно, в разные времена она «мигрировала», подчиняясь прихотям владельцев здания и пожарной инспекции. Но порой и в течение пятнадцати минут я не был уверен, что в последний раз курил в этом же месте и это же курево… А это ведь разные ветви реальности по Переслегину!… Доев третий «рубленный» бутерброд, и вспомнив о возможной миграции «официальной точки удовлетворения порочной страсти», я почувствовал, что пришла пора нарушить предупреждение Минздрава, напечатанное на лежавшей у меня в кармане пачке «Беломора». Я вопросительно глянул на Владимира Ивановича. Он все мгновенно понял, мы захватили с собой по кружке кофе и отправились в курилку… О разговоре с Владимиром Ивановичем в курилке, её текущем месторасположении и дизайне, версии о наркотическом характере событий в Емельянове, мрачных предчувствиях ближайшего будущего, а также о первом за сегодняшний день личном общении с шефом. «Разлука – это судя по тому, с кем расстаешься. Дело в человеке. Где остаешься. Можно ль одному остаться там, подавшись в имяреки? ……………………………………………… А что тебе разлука?» «Трепотня… Ну, за спиной закрывшиеся двери. И, если день, сиянье дня». «А если ночь?» «Смотря по атмосфере… Наша курилка, как известно, это просто один из холлов первого этажа, темная полуподвальная «сараина», которую разрешили «испоганить» для предотвращения «социального взрыва» несознательной и потому агрессивной части работающего персонала, для которой и их собственное здоровье, и здоровье окружающих – пустой звук. Да и прагматическая польза от такого решения была – все равно ведь курильщики нарушали запрет на употребление табака на всей территории НИИМотопрома, введенный было сгоряча его новыми владельцами, американизированными молодыми ребятами, получившими образование уже где-то в Гарварде или Йеле. Из-за этого даже пожар однажды чуть не случился! Хорошо, что обошлось просто возгоранием, героически ликвидированным дружным коллективом барышень из фирмы "Денсибел", которые арендовали офис на том этаже, где в одной из угловых и временно пустующих комнат «эти несознательные коптильщики собственных лёгких» устроили нелегальный притон для употребления своего зелья… Мы спустились на лифте на первый этаж, держа в руках как опознавательные знаки кружки с ароматным кофе. Свастика по-прежнему «украшала» его двери, но были видны следы усилий уборщицы стереть её мокрой тряпкой. Однако усилия эти дали прямо противоположный желаемому результат - на грязной вердепешевой поверхности двери появилось яркое свежее пятно цвета бедра испуганной нимфы, на котором изображение свастики стало гораздо контрастнее и заметнее. В курилке было пусто и сумрачно и пахло, конечно, не розами, а застоявшимся табачным дымом. Пол из керамической плитки, стены того тошнотворного цвета, который Гоголь метко назвал «цветом застуженного картофельного киселя», с белесыми подтеками из-под незакрывающихся окон. Урна и два полуразодранных кресла – вот и вся ее обстановка. Всё правильно, такой антураж, по расчетам ее устроителей, способствует отвращению «заблудших» от пагубной привычки. И, «по теории», конечно «должен был» способствовать. Но, честно говоря, «на практике» - не способствовал… А вот чувство «классовой ненависти» к «этим гарвардским выкормышам», которые, по слухам, «сами-то курят трубочки прямо в кабинете» - вызывал. Мы уселись в кресла, отодвинув их от стены, пригубили все-таки по глотку остывшего кофе, закурили, и я спросил: - А почему вы, Владимир Иванович, спросили Елену Никоновну о том, дома ли мы? У вас что, есть какие-то сомнения в этом? Владимир Иванович усмехнулся и ответил мне вопросом: - А что, у вас их нет? Только не рассказывайте мне про то, что вы здесь больше десяти лет работаете, что «коллектив дружный» и что «все вас уважают»… Мы люди взрослые, и я вам скажу откровенно – не жильцы мы с вами в этом «дружном коллективе». И если сегодня выставят меня (а что-то мне подсказывает, что так оно и будет), то вас – завтра. Ну, в крайнем случае – через полгода. Я не стал лукавить и рассказал ему о своем утреннем мороке. Не всё, правда, рассказал – ни цифр, ни пистолета в этом рассказе не было. Не считал я этичным обсуждать сейчас ни возможность «торговли» с шефом, ни, тем более, средств давления на него при этом. Владимир Иванович выслушал меня, попивая остывший окончательно кофе и покуривая свой «Парламент». Мы немного помолчали, а потом он сказал: - Вы, конечно, помните нашу поездку в Емельянов? А знаете, почему я так быстро понял, что весь тамошний бред – это совсем немножко героина в водочке и очень много туркменской дури? Я живо представил себе тот вечер и ответил: - Нет, я и до сих пор не представлял себе, что это был героин! А вы действительно почти ничему не удивились, когда я вам про пятиглавого орла сказал! Ктолин снисходительно посмотрел на меня и продолжил: - Да потому что знаю я эти «восточные тонкости» не по наслышке! Капелюшечка героина в водке – это для того, чтобы вы привыкали к его вкусу. Да что б захаживали к ним почаще. Для нас-то с вами этого делать было не нужно, мы же не местные, ещё раз просто не придем, но у них, наверно, «чистой водки» под руками не было, а тащиться на склад из-за наших 200 грамм глупо и «в лом». Он замолчал, давая мне время переварить его слова. Я достал новую папиросу, обстучал ее, тщательно продул, не спеша сформировал мундштук, закурил, сделал пару глотков кофе, и при этом лихорадочно вспоминал все, что читал в Интернете о водке и наркотиках… И вспомнил! Однажды встретил такое заявление: «Тайная масоно-евруйско-нацистская организация негров "Белое Возрождение" подмешивает в водку «Исток» седетативные психотропные препараты». Об этом я и сообщил Владимиру Ивановичу – дескать, не с этого ли сайта и его информация? Владимир Иванович на мою подначку не клюнул. Он тоже достал новую сигарету и, после затяжки, сказал: - Для лёгкого «кайфа» и развития привычки к нему и нужна-то капля спиртового раствора диацетилнорлина на бутылку водки… А из симптомов героинового кайфа наиболее характерны два – эйфория и сонливость. И стоит это – копейки. А вот через недельку-другую эта капля в рюмках постоянных клиентов становится золотой для хозяина притона… Мне, кстати, тётка ихняя, «военная», вспомнилась быстро. Когда вы про гридеперливую октограмму мне сказали, я тут же представил себе те бумаги, которые были у меня, когда я работал в Таджикистане. Я ведь там в конце перестройки – начале демократии химическим заводом владел! И, конечно, с Туркменбаши дела имел – там все рядом. А высоковольтное энергокольцо ещё с советских времен вообще всю Среднюю Азию делает единым производственным объектом. Внутренняя политика у «баши» хитрая – денег у него куры не клюют, но народец должен крошки с ладошки слизывать, кланяться, и благодарить, снова благодарить, и снова кланяться… Я прервал его и спросил: - А при чем тут шеф и его разговор с Еленой Никоновной? Владимир Иванович кольнул меня взглядом и сказал: - А вот при чём! Ваш шеф хочет - как и Туркменбаши - чтоб мы с вами слизывали с ладошки и кланялись… Но что б при этом ни у кого и в мыслях не было сравнивать его с этим «газовым пузырем» Туркменбаши! Я снова прервал его: - Ну, это же всеобщий закон – чем выше влез, тем ближе к звездам. А они, звезды, кажутся нам снизу почти одинаковыми, чем бы они ни были «на самом деле» и что бы ни думали сами о себе… Владимир Иванович не отреагировал на это мое замечание и продолжил: - Конечно, у подданных баши выхода нет, вот и идут, скажем, в его «армию» такие тёлки, как мы в Емельянове видели. Она же ведь без этой комедии с «Указами» да мундирами на потеху «божественного Сапармурада» просто с голоду распухнет! Или сгинет на Кушке, куда вы ее пригрозились отправить!.. Но «у меня другие интересы». Я, между прочим, когда у них заварушка была, и толпа на мой завод с погромом шла, выкатил за ворота бочку с хлором и сказал: «Всех как тараканов потравлю, только суньтесь!». И отстоял завод!.. Правда, потом все равно его у меня отняли, но это – другая история… Я допил кофе и заметил: - Ну, настоящая история всегда «немного другая», а вот то, что вы руку, даже вас кормящую, лизать не будете, я с первого раза, как только вас увидел, понял. Удивился, что шеф вас принял. И тогда же подумал про вас и про него, что два медведя в одной берлоге долго не проживут. Ктолин выслушал меня, тоже допил кофе и, вставая, подвел итог разговору: - Был я и «медведем», и «быком», когда на бирже играл, да теперь, пожалуй, становлюсь упрямым кентавром – по пояс Ктолин, а ниже - конь… С большим копытом – меня не тронь! Я за себя постоять смогу! Но – куда конь с копытом, туда и рак с клешней… У кого из нас копыто, а у кого клешня, и что из них в каком деле лучше – неважно. Важно то, что и мне, и вам, как я вижу, такой способ пропитания – с руки – не очень-то по душе… И вы тут явно не ко двору. «Можно ль одному остаться там, подавшись в имяреки?». Вы, конечно, не медведь, не волк, не рак, вы – просто самодостаточный человек. Но есть в вас нечто, что не позволит и вам здесь долго оставаться. После меня съедят вас быстро. Это ваше качество может представляться как гордыня, а может – как самоуважение. Такому, как вы, человеку многого не надо, но то, что ему дают, нужно так давать, чтобы можно было взять! Мы пошли по коридору к лифту и на его развилке столкнулись с Давидом Ильичем. Его изящная кепочка была покрыта водяными шариками, что придавало всей его фигуре какой-то жалостливый вид, но застывшая в глазах решимость и недобрая ирония, с которой он взглянул на кофейные кружки в наших руках, не предвещали ничего хорошего. - Здравствуйте, Давид Ильич! – подобно Бобчинскому и Добчинскому почти хором сказали мы с Владимиром Ивановичем. - Здравствуйте, «кремлевские мечтатели»! – ответил он с усмешкой. – Посидели, покурили? И кофеёчку, вижу, попили?… Неужто в гостях не попотчевали? Ну, тогда пошли наверх, расскажете – чем же тогда вас там, в Кремле, угостили? О посвященном сажевым делам последнем совещании в общей комнате, предшествовавшей ему рабочей атмосфере в ней, нашем отчете о поездке «в Кремль», остром обмене репликами между Владимиром Ивановичем и шефом, а также о тайных желаниях Оли и Анечки. Как войску, пригодному больше к булочным очередям, чем кричать «ура», настоящему, что б обернуться будущим, требуется вчера. На пятно цвета ляжки испуганной Машки со свастикой посередине Давид Ильич внимания не обратил, а, выйдя из лифта, сразу пошел по коридору к двери своего кабинета, сказав нам на ходу: «Я к вам выйду». Это было странно – обычно он предпочитал выслушивать отчеты у себя в кабинете. Но причина этой странности прояснилась быстро. Когда мы вошли в нашу комнату, весь «женский компонент» нашего дружного коллектива был на рабочих местах и занимался делом. А, кроме того, в комнате присутствовали и ещё две весьма экстравагантные девицы. В дальнем конце, у стены, Елена Никоновна, как всегда, что-то «упорядочивала» в одной из многочисленных папок, стоявших рядом с ней на этажерке. Ближе к нам, вслед за пустующими столами Ильи Стефановича и Александра Еремеевича, сидела Елена Петровна. Её почти скрывала сень какого-то «комнатного монстра» (кажется, «китайской розы») - почти куста в огромном горшке, стоявшего на окне и вызывающе демонстрировавшего всем желающим свои крупные накаратовые цветы с длинными камелопардовыми языками то ли пестиков, то ли тычинок, а Елена Петровна что-то тихонько шептала в телефонную трубку губами, накрашенными помадой цвета Plum sherbet. И только тренированное ухо могло уловить нечто членораздельное в ее шелестящей скороговорке: «Фарт от нас… И сажа тоже… Ну, там посмотрим… Потом в карьер… А транспорт чей?... Он сам сказал… Бумага будет… Конечно, деньги!...». За следующим столом Татьяна Борисовна, зябко кутаясь в какой-то немыслимо огромный и пушистый платок цвета испуганной мыши, что-то рисовала на листке бумаги, покусывая свои накрашенные помадой Coral panache губы, и, судя по количеству прямоугольников и стрелок, которые уже покрывали пол-листка, это была её очередная бизнес-схема, которая, осуществись она в реальности, могла привести и к даче на Канарах, и – увы! – к занозам на тюремных нарах, но, вероятнее всего, просто будет выброшена в мусорную корзину. И хорошо ещё, если после обсуждения, которое могло бы «зацепить» чью-то более жизнеспособную идею, а не по воле автора, рвущего на клочки свое творение в угоду минутной прихоти или новой фантазии… За моим столом сидели две новые барышни – Оля и Анечка – которых, оказывается, шеф пригласил на «смотрины» и которые испуганно вздрогнули, когда мы вошли. Было очевидно, что они решают очень важный для себя вопрос - а стоит ли бороться за место в этой конторе? Барышни ещё не утратили детскую непосредственность, легко читаемую в любопытствующих взглядах, бросаемых ими по сторонам, как бросают спиннингом рыбаки блесну, определяя рельеф и состояние дна места предстоящей рыбалки. И, по выражениям их наивных девичьих лиц, можно было видеть, что деловая атмосфера, созданная к приходу шефа нашими дамами и царящая в данный момент в нашей комнате, пока не казалась им «пределом мечтаний». Людмила Феофилактовна, как всегда, с телефонной трубкой, прижатой к уху левым плечом и с авторучкой в правой руке («Записываю… 10 тонн… Лучше и не найдёте… Разумеется, лично…»), «неприметно» наблюдала за ними, вероятно, по указанию Давида Ильича, для того, чтобы принять «взвешенное решение» о приеме или отказе от места этим юным нимфам. И выражение ее лица тоже не выражало восторга. Нет, она не могла и не хотела сказать ничего плохого о соискательницах, более того, в случае их приема у нее лично уменьшилось бы количество хлопот и работать ей стало бы легче. Но это облегчение повлекло бы за собой и облегчение того конверта, который она ежемесячно получала в кабинете шефа. Так, по крайней мере, ей казалось. А такая перспектива ей вовсе не улыбалась! Да и понимала она, что в её-то годы, при ее-то болячках, при перспективе лечь «на обследование» в больницу, а там и – не приведи, Господь! – на операцию, какая-то из этих девочек вполне могла усесться за ее стол столь прочно, что ей, Лидии Федотовне, уже не нашлось бы места в «нашем дружном коллективе». Так что были у нее причины смотреть на этих «голоногих» скептически. А девочки – намеренно ли, по рекомендациям подруг и интернетовских сайтов, или просто по детской ещё привычке покрасоваться – вовсе и не скрывали своих изящных ножек под длинными юбками или брюками, а именно демонстрировали их. Одна – в чулках «Bas Secret» цвета амбра, а другая – в колготках «For you» светло-телесного цвета песка. И юбки у них были такой длины, что даже мы с Владимиром Ивановичем, стоя у входной двери, могли легко определить – на ком из них чулки, а на ком – колготки. Очень скоро раздался характерный щелчок и в комнату из своего кабинета вышел Давид Ильич. Он оглядел помещение, удовлетворенно произнес: «Вижу, не разбежались!» и, не говоря больше ни слова («чтобы не отрывать от работы») направился к столу Елены Никоновны. Новенькие девицы напряглись, пытаясь одернуть свои юбчонки как можно ниже. На наивно-любопытствующих мордашках легко читался мучивший их гамлетовский вопрос – вставать или сидеть? – но Давид Ильич успокоил их движением руки – мол, не трепыхайтесь, когда будете нужны – скажу! Он подошел к Елене Никоновне и о чем-то тихонько стал с ней переговариваться. Поскольку мое место было занято, я сел за стол Иосифа Самуиловича, который вместе с Ильей Стефановичем и Александром Еремеевичем был в Новокомаринске, где они пытались «подключиться» к проекту возрождения производства тетраметилового эфира, который «раскручивал» сам Лужков. Владимир Иванович сел за свой стол посреди комнаты. И, хотя женщины продолжали изображать «рабочий энтузиазм», им всем – войску, пригодному больше к булочным очередям, чем кричать «ура» – было ясно, что вот-вот должно было начаться некое действо, главными героями которого будем мы с Владимиром Ивановичем, а в качестве кордебалета выступят Оля и Анечка. Наконец, Давид Ильич закончил свою подготовку (а его разговор был именно заключительной фазой этой подготовки) и обратился ко всем присутствующим: - Людмила Феофилактовна, Таня, Лена – прервитесь на минутку! Мужиков сейчас у нас мало, и нужно относиться к ним внимательно. Вот Владимир Иванович и Юрий Александрович ездили сегодня по сажевым делам. Давайте послушаем, что они «надыбали» в Кремле, куда сегодня их приглашали. Я правильно говорю, Владимир Иванович? Владимир Иванович слегка насупился и, не вставая с места, начал: - Не совсем. Никто нас никуда не приглашал… Кто нас в Кремле знает? Это я сам напросился через старые связи, поскольку… Давид Ильич прервал его: - Ну, не будем так уж прибедняться – где и кто нас знает… Я думаю, что волк и должен сидеть там, где никто его не видит, а прыгнуть – и одним махом прямо за горло!.. Я ведь тоже порой такие двери открываю… Ясно, что это лирическое отступление исполнено ради новеньких барышень – они должны были осознать, в какое место попали. И потому «принижение» известности нашей фирмы Владимиром Ивановичем было сразу же пресечено, а заодно и продемонстрировано, кто в «лавке хозяин» и какого полета эта птица. Давид Ильич замолчал, давая возможность Владимиру Ивановичу продолжить. Однако Владимир Иванович молчал – он обиделся, что его так перебили и демонстративно надел маску дурачка-солдафона, ждущего приказания «начальства». Давиду Ильичу не оставалось ничего делать, как только принять эту игру, он это понимал, но понимал и то, что роль «начальника дурачков» совсем не та, к которой он стремился, а потому с раздражением сказал: - Ну, продолжайте же, Владимир Иванович! Владимир Иванович по-военному дернул головой и продолжил: - Докладываю! Мы имели разговор с ведущим специалистом ФГУП «Кремлин» Иваном Семеновичем Нюником, который фактически является первым замом Генерального Директора «Кремлина». Обсуждался вопрос о поставках абсорбента «Б-3 тяжелый» с Берлингуерского завода синтетического каучука на Ильмазы. Нам обещают десять цистерн в месяц. Но… Здесь Владимир Иванович замялся и взглядом попросил моей поддержки. Я прекрасно понимал это его «но…». И, конечно, «вступил в бой»: - Владимир Иванович хочет сказать, что прежде, чем подписывать соответствующий договор с Берлингуером, необходимо провести заводские испытания качества абсорбента как сырья для производства сажи марок К-354 и П-803. Для этого требуется съездить в Берлингуер, взять представительную пробу в количестве 40 литров и переправить ее в Ильмазы. В настоящее время мы обсуждаем с ним, как технически осуществить такую операцию. И нужно бы подумать о патентной проработке, чтобы иметь козыри «в Кремле». Я видел, как по лицу Давида Ильича проходили волны чувств. Сначала – чуть подозрительное внимание, потом, когда он услышал о 10 цистернах, тоже недоверчивая, но надежда, явное раздражение при слове «но…», и, наконец, злая решимость после моего завершения отчета. Все остальные слушали отчет равнодушно. Только на лицах барышень мелькали испуганные тени, когда они слышали незнакомые им слова «абсорбент», «Ильмазы», «П-803». Да Елена Никоновна чуть заметно усмехнулась, когда я заговорил о необходимости командировки. Давид Ильич немного помолчал, собираясь с мыслями, а потом решительно сказал: - Насколько я вас обоих понял, состояние дела таково, что вы не знаете, получится ли вообще что-то приличное из этого дерьма и сколько сажи – любой марки! – выйдет из тех десяти цистерн, за которые с вас в Кремле просят деньги, которые я должен ещё где-то занять, или все эти цистерны улетят в трубу! И вы хотите за мой счет прокатиться на такси с прицепом из Берлингуера в Ильмазы с двумя канистрами этой каки – а по другому вы никак не привезете эти образцы! – для того, чтобы сказать, сколько копеек с цистерны мы заработаем? Владимир Иванович упрямо набычился и хотел что-то возразить, но Давид Ильич столь же энергично продолжил: - И все это будет тянуться еще месяца два-три – пока вы съездите в командировку, пока образцы испытают, пока обсчитают, пока в Кремле «добро» дадут, пока мы заплатим, пока абсорбент отгрузят, пока сожгут, пока сажу продадут… А, кстати, Лидия Феофилактовна, есть реальные покупатели на сажу? Или и вы мне скажете, что нужно чего-то ждать? Лидия Феофилактовна обиженно посмотрела на Давида Ильича, потом укоризненно – на меня и сказала: - Ну что вы такое говорите, Давид Ильич? Вообще покупатели, конечно есть… Но как можно искать реального покупателя, не зная, ни какой маркой мы будем торговать, ни в каком количестве, ни по какой цене? А это все можно будет сказать только после производственных испытаний! Лица соискательниц давно потеряли всякую подвижность. На их мордочках было написано одно желание – поскорее оказаться в коридоре, а на застывших губках, накрашенных помадой цвета робкого фавна, читались страх, обида и надежда на то, что дверь в эту комнату скоро навсегда захлопнется за их спиной. Давид Ильич пристально посмотрел на Владимира Ивановича, и отчеканил: - И после этого вы хотите, чтобы я ещё три месяца платил вам зарплату и катал вместе с уважаемым Юрием Александровичем на такси «по просторам Родины широкой»? А Юрий Александрович ещё и эту «дурочку-пышечку» Аллу Сергеевну мне на шею посадить захочет?ие к вашим химерам мне на шеюТут взорвался Владимир Иванович: - А вы хотите, чтобы вместо «вонючих образцов» на автоприцепах, вместо долгосрочных договоров, налаженных связей, дорогих и капризных, но нужных людей, мы привозили бы сюда только рубли, лолларды и азиаты теми же автоприцепами и сдавали их Елене Никоновне, причем за неделю до того, как ехать в Ильмазы в командировку, чтобы потом вы «милостиво повелеть соизволили» заплатить нам из них? Давид Ильич выслушал все это, а потом почти спокойно сказал: - Ну, что ж! Поговорили… Все свободны – можно по домам. Елена Никоновна пока остается, а вас, Владимир Иванович и Юрий Александрович, прошу ко мне в кабинет… О моем возвращении с работы, поездке в Царицыно, эпизоде на станции метро «Каширская», моем воспоминании об обстоятельствах дезертирства сержанта Лукашина, а также о значении медицинского термина «онейроид». «Ты вправду спишь? Да, судя по всему, ты вправду спишь… Как спутались все пряди… Как все случилось, сам я не пойму. Прости меня, прости мне Бога ради. … Даже если бы на выходе из НИИМотопрома под его тяжелым, нависающим козырьком, предназначенном для защиты от «атмосферных осадков», но, по чести говоря, плохо справляющимся с этой функцией, меня ждал следователь Генеральной Прокуратуры, я бы не смог толком объяснить ему, что же произошло четверть часа назад в одном из кабинетов этого здания на пятом этаже. «Как все случилось, сам я не пойму…». Ночной кошмар-морок смешался в моем представлении с той реальностью, которая – несомненно! – была таковой полчаса назад в какое-то липкое месиво из фактов, образов и воспоминаний, склеенных яркими злыми эмоциями. Медики, кстати, считают это «расстройством сознания» и называют такое состояние «онейроид». Но название ничего не объясняет, а только свидетельствует о том, что это явление существует и у «официальной науки» есть даже «папочка» с таким названием. Но в папочке – только куча «официально зарегистрированных» фактов без каких-то внятных их объяснений – что же стоит за этими фактами?… И выскочил я из-под козырька «на автомате», не отдавая себе отчета, куда и зачем я иду. А шел я под тем же непрекращающимся дождем, под которым утром шел на работу. В голове крутилась строчка К.Симонова: «… шли бесконечные злые дожди…». И точно – сегодняшний дождь не был ни крупным, ни холодным, ни проливным, а именно изматывающее-монотонным, моросящим, равнодушным и злым. Но разного злого сегодня я видел столько, что уже не обращал на это внимания… Теперь, когда все окончилось, спешить действительно было незачем, и я аккуратно обходил огромные лужи по самому «сухому» из всех неизбежно мокрых маршрутов… Ещё не дойдя до калитки в заборе НИИТМотопрома, я немного успокоился и решил заехать на радиорынок в Царицыно, чтобы купить новые картриджи и бумагу для принтера – у него в ближайшее время явно прибавится работы. Злые мысли крутились вокруг последней сцены в кабинете как осы вокруг куска сырого мяса, но от их жужжания прояснения не наступало, а ноги несли вперед по замысловатой кривой между ручейками, бочажками и озерцами тротуара проспекта им. Ю.В.Петрофабриченского вверх, к Онкологическому Центру. Почему-то всплыла в памяти старая армейская история. Служил у нас один сержант, откуда-то из руссийской глубинки. Парень грамотный, бойкий, рукастый, он к концу службы стал зампотехом роты. И вот однажды, меньше чем за полгода до его «дембеля», 11 июля 1972 года (я хорошо запомнил эту дату, поскольку она предшествует тогдашнему Дню независимости Монголии) он заступил в наряд по парку. Я как раз был оперативным дежурным и выдал ему «табельное оружие» - пистолет Макарова. После своего наряда я спал «как убитый», но общедивизионная тревога Наташиными руками смогла-таки разбудить меня в 4 часа утра! Оказалось, что сержант Лукашин угнал из парка персональную машину комбата, был остановлен на посту ВАИ, стрелял в дежурившего там офицера, после чего и «скрылся в неизвестном направлении». Офицер, у которого, несмотря на выполнение им «боевой задачи», не было никакого оружия, после прозвучавшего в монгольской ночи выстрела (кто и куда стрелял в тот момент дежурный по посту благоразумно выяснять не стал) очень быстро принял правильное решение: упал прямо на живот (благо в гобийской предпустыне, ровной, как днище сковородки, это не грозило серьезными травмами) и быстро-быстро пополз на свой КП. Оценить технику его ползания было невозможно из-за кромешной тьмы, но вот скорость оказалась даже выше, чем норматив на оценку «отлично». Приползя в будку, он тут же позвонил, сообщил о нападении на пост и, тем самым, поднял по тревоге всю нашу дивизию. Танковую, между прочим… Лукашина мы искали 18 часов. И это в праздничном монгольском городе, чуть ли не втором по величине в стране! Монголам, естественно, ничего не сообщили о причинах того, почему на их праздник пришло столько «руссийских цириков» с автоматами и почему при такой «некруглой» дате (51 год их революции) военный парад такой длинный? (Весь день над городом летали наши вертолеты, а по улицам разъезжали бронетранспортеры и машины). А через 18 часов беглец и стрелок из пистолета сам сдался первому же встреченному им патрулю в самом центре города. Оказалось, что он перед выездом из парка «принял на грудь» «немножко бражки», тайно зревшей в одном из парковых огнетушителей, а, попав среди ночи в незнакомое место, забрел на стройку (единственную в городе!) и лег спать на какие-то рабочие лохмотья. А на следующий день его никто не разбудил (праздник – все рабочие на демонстрации и за праздничными столами). Проснувшись, Лукашин сразу понял по стрекоту вертолетов и гулу бронетранспортеров, кого и, главное, ЗА ЧТО ищут. Решил выйти «к своим» и… застрелиться! Потому, что жить после такого исхода вчерашнего куража не хотелось. И кому теперь что объяснишь? Ибо стрелял-то он ведь «просто попугать», вверх, «в белый свет как в копеечку», от тоски и из-за девичьей измены, ставшей ему известной из ее же письма, полученного уже в ходе дежурства, а, судя по переполоху, попал прямо между глаз этому чванливому лейтенанту. Спасло дело то, что во встреченном им патруле был один мудрый сверхсрочник, который, увидев его, выходящим из-за угла с пистолетом у виска, успел крикнуть: «Да не попал ты! Мимо! Он живой!». А теперь мне почему-то захотелось увидеть Владимира Ивановича и рассказать ему эту историю… Я сел в метро на станции «Каширская». И хотя – объективно! – никуда не спешил, был рад тому, что удалось вскочить в последний вагон в тот момент, когда из динамика послышалось: «Осторожно, двери закрываются!». Это сработал древний инстинкт – ты убегаешь, я – догоняю, я убегаю – ты догоняешь. И я не смог бы сказать, какую именно роль – убегающего или догоняющего – я исполняю в данный момент… Народу на станции было немного, мне даже удалось сесть. С моего места был виден и перрон и противоположный путь. И в тот момент, когда мы тронулись, из тоннеля противоположного пути выскочил поезд. На этой пересадочной станции движение устроено так, что поезда на противоположных путях двигаются в одну и ту же сторону. Мы набирали скорость и платформа за окнами сначала медленно поплыла, а потом движение ускорилось настолько, что и люди, и станционные колонны превратились в неясные теневые пятна, мелькающие друг за другом. Светлой полосой выглядел и движущийся по противоположному пути поезд. Он опередил нас, но уже начал тормозить, замедляясь по мере приближения к концу платформы. И вот наступил момент, когда скорости поездов стали уравниваться, и я увидел, как светлая полоса распалась на отдельные вагоны, а потом, на несколько мгновений, которые, тем не менее, показались мне достаточно длинными, параллельный поезд «остановился» и я сквозь призрачное мелькание теней станционных колонн смог разглядеть даже выражения лиц его пассажиров. Рядом со мной сидел молодой парень и из наушников, которые висели у него на груди, слышалась популярная песня Анатолия Журавлева: В том что так случилось Нет ничьей вины Просто мы с тобою… Параллельные миры. Я не знал тебя тогда Между нами дни, года, Между нами целый мир как стена. Только руку протяни И исчезнут эти дни И миры и города и года… Странное ощущение охватило меня… Я как будто зримо увидел «срастание» или «склеивание» этих параллельных миров из песни. Даже девушка, отвечающая настроению медленной мелодии, сидела в «параллельном вагоне» и, полуприкрыв глаза, задумчиво слушала в своих наушниках… ту же песню! Да, я понимаю, все это – элементарные следствия законов механического движения, оптических и психологических иллюзий, сегодняшнего стресса. Но ощущение было настолько ярким, что мне подумалось – а вдруг все это «на самом деле»? Я достал свой телефон и подключился к интернету. Одна мысль была настолько надоедливой, что хотелось как можно скорее от нее избавиться. Поиск занял буквально минуту: Онейро́идный синдро́м (онейро́ид) (греч. oneiros — сон, -eides — подобный, похожий) — психопатологический синдром, характеризующийся особым видом качественного нарушения сознания (онейроидная, грезоподобная дезориентировка) с наличием развёрнутых картин сновидных и псевдогаллюцинаторных переживаний. Дезориентировка во времени и пространстве (иногда и в собственной личности) при онейроиде отличается и от оглушения (характеризующегося отсутствием ориентировки), и от аменции (характеризующейся постоянным безрезультатным поиском ориентировки) — при онейроиде больной является участником переживаемой псевдогаллюцинаторной ситуации. Окружающие люди могут включаться больным в виде участников в переживаемую ситуацию. Т. н. сновидные, грёзоподобные переживания при онейриде не имеют внешней проекции, разворачиваются внутри сознания, в субъективном психическом пространстве, поэтому являются не истинным галлюцинозом (в отличие от делирия), а псевдогаллюцинациями (псевдогаллюцинозом). Переживаемые больным картины ярки, часто (хотя необязательно) фантастического содержания. Несмотря на то, что больной является участником переживаемых им событий, двигательное возбуждения для онейроида нехарактерно (оно возможно, но наблюдается редко), напротив, чаще больные лежат в оцепенении, отрешены от окружающего, мимика однообразная, «застывшая». В зависимости от преобладания аффекта различают маниакальный (экспансивный) и депрессивный варианты онейроида. При онейроиде характерно наличие бредовых идей, содержание которых определяется содержанием псевдогаллюциноза. В течение онейроида иногда различают (не все психиатрические школы) несколько этапов: начальный (стадия аффективных расстройств), стадия бредового настроения, стадия бреда инсценировки с ложными узнаваниями, стадия фантастической парафрении, стадия истинного онейроида. После выхода из онейроидного состояния возможна частичная амнезия, однако она выражена в гораздо меньшей степени, чем при делирии. Развитие онейроидного синдрома возможно при инфекционных, интоксикационных психозах, шизофрении, реже при маниакально-депрессивном психозе. Прочтя это, я подумал: «Нет, пожалуй, анемнез все-таки другой… И «внешняя проекция» тут была явная, и «двигательное возбуждение» ярко выражено, и инфекций и интоксикаций, вызывающих психоз, я что-то не припомню. Ну-ка, еще кого-нибудь послушаем. Ага, вот, кажется, впечатление «живого практикующего врача»»: «Такие больные либо полностью отрешены от окружающей их обстановки и ощущают себя участниками фантастических событий, разыгрывающихся в их воображении (грезоподобный онейроид), либо, сохраняя весьма фрагментарное отражение реального мира, они охвачены обильно всплывающими в их сознании яркими чувственными фантастическими представлениями (фантастически-иллюзорный онейроид). Нередко эти больные представляют себя историческими личностями, государственными деятелями, космонавтами, героями фильмов, книг и спектаклей, видят себя на других материках, планетах, летают в космосе, живут в других исторических эпохах, участвуют в атомных войнах, присутствуют при гибели вселенной и т. д. Они проживают целую жизнь, участвуя в цепи самых разнообразных событий, может быть даже где-то работая, кого-то защищая и любя, за что-то борясь… А в реальности это выглядит так: растерянный человек недоуменно озирается по сторонам, его взгляд скользит с одного предмета на другой, не задерживаясь ни на одном из них (фантастически-иллюзорный онейроид) или он настолько загружен, что реальное окружающее даже не привлекает его внимания (грезоподобный онейроид). А рядом бегает нянечка, меняет ему белье, вкалывает пищу, убирает его испражнения…» Нет, я решительно не ощущал себя космонавтом, да и нянечки с горшком моих испражнений не было. Но понятно, что с доктором, даже если он «добрый», лучше не встречаться: количество медиков у нас достаточно велико для того, чтобы – просто по закону больших чисел! – нашелся такой, который легко может констатировать у меня именно «онейроидный синдром». И тогда – неизбежное: «Завтра же дайте мочу на анализ, не пейте много чаю и ешьте без соли совершенно!»… Но я прав в главном – это медицинское определение только фиксирует факт, ничего не говоря о его сути! И тут я вспомнил найденную сегодня утром в интернете статью Переслегина о реальности параллельных историй и тривиальная, в общем-то, мысль о том, что после того, как события сегодняшнего дня окончательно прояснятся и уйдут в мое прошлое, я стану, если и не действительно свободным – это неосуществимая абстракция – но, как точно заметил Владимир Иванович Ктолин, по настоящему самодостаточным человеком, оказалась каким-то успокоительным бальзамом, погасившим последние искры злобы. Мне подумалось, что теперь я смогу не торопясь прочесть работы Переслегина и сам решить, что же такое эти «параллельные миры»? Но чем бы они ни оказались «на самом деле», они станут предметом вдумчивого анализа без опасения «проспать», без изнурительных «командировочных перерывов» и того терзающего рваного ритма, когда днем я боролся с конкурентами и собственной ленью за наполнение закромов «родной фирмы», а вечерами, порой засыпая от усталости, «ползал по Интернету» или царапал что-то своим неудобочитаемым почерком в рабочей тетради… Купив на рынке картриджи (разумеется, «левые» - они втрое дешевле «настоящих») и две пачки бумаги, я вернулся домой уже почти к программе «Время». Последнее, что я сделал, ещё находясь «во внешнем мире», до того, как за мной закрылась дверь моей квартиры, которая с завтрашнего дня могла стать и материальным воплощением моего микрокосма, ибо и жить, и работать теперь мне – я все ещё надеялся на это! – предстояло именно за этой дверью, было то, что я извлек пачку рекламных газет и каких-то листовок из почтового ящика… Глава 12 О грустном начале вечера, таинственном документе из почтового ящика и анализе возможной причастности к его появлению некоторых действующих лиц, о фонетико-филологических соображениях, касающихся происхождения названия города Мошква, а также о приготовлении мною оригинального коктейля из чая и кофе. Частная жизнь. Рваные мысли, страхи. Ватное одеяло бесформенней, чем Европа. С помощью мятой куртки и голубой рубахи Что-то ещё отражается в зеркале гардероба. Выпьем чаю, лицо, чтобы раздвинуть губы. Воздух обложен комнатой, как оброком… За дверью меня ждал радостный Бяшка. Радость его была чиста и бескорыстна – Наташа уже выгуляла его – а потому и прыжки, и виляние хвостом, и облизывание моих рук были просто выражением искреннего удовлетворения от того, что вернулся хозяин, что его гладят по мохнатой голове, и что все, наконец, дома. Когда Наташа спросила меня, почему я сегодня так поздно и выразительно посмотрела на лежащие на кухонном столе так и не починенные мною очки, я сказал, что работал с бумагами, которые не успел сделать днем из-за того, что «полетел» жёсткий диск моего компьютера и его очень долго чинили. Я решил, что правду скажу ей завтра – уж очень не хотелось снова ощутить ту волну злости, которая охватила меня в кабинете теперь уже бывшего шефа. Выплескивать же эти чувства на нее сейчас и обрекать на тяжелую бессонную ночь (а у нее в последнее время возникли проблемы со сном) было бы просто жестоко. Да и что я мог рассказать точно? А снова вспоминать всё то, что произошло, тоже не хотелось, да и не получилось бы… Сославшись на то, что кое-что я так и недоделал, и нужно «ещё посидеть и поработать», я, наскоро поужинав, ушел в свою комнату. Наташа, конечно, поняла, что я чего-то «недоговариваю», что у меня какие-то неприятности, но допытываться не стала – это у нас не принято. У себя в комнате, прежде чем сесть за компьютер, я просмотрел извлеченную из почтового ящика корреспонденцию. Все местные рекламные газеты я, даже не просматривая, отложил в сторону – это для мусорного ведра. Туда же попадут и предложения купить «дачный домик» (с сезонной скидкой) и «вставить пластиковые окна» (предъявителю этой листовки скидка 5%). Но вот один листок вызвал у меня и изумление, и досаду, и, одновременно! – жгучий интерес. Это был ксерокс официальной бумаги: Министерство труда и социального развития Российской Федерации 25 февраля 2005 г. №22 г.Москва . О прекращении выплаты Материальной помощи В связи с недостатком средств, выделенных на 2005 год из Федерального бюджета по статье «Выплата пенсий и пособий» 1. Отменить выплату материальной помощи, назначенной безработным гражданам в соответствии с приказом Департамента ФГСЗН по городу Москве от 21.01.2005 г. № 04 «Об утверждении временного Положения о порядке и условиях оказания материальной помощи безработным гражданам». 2. Ввести в действие настоящий приказ с 01.03.2005 г. 3. Директорам центров занятости административных округов довести требование настоящего приказа до специалистов отделов ЦЗН АО. 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Мельникова С.А. Сначала я принял этот документ за чью-то глупую шутку – уж очень он подходил на роль щепотки соли, которую этот некто высыпал на мои сегодняшние раны. Мне как бы «разъясняли», какую социальную ступеньку я теперь займу даже при самом благополучном варианте развития событий, и что мне предстоит «претерпеть» в новом моем положении. Но кто мог это сделать? Наших «мужиков» (и шутника Ильи Стефановича в первую очередь) не было в Мошкве, а у барышень не могло быть уверенности в исходе нашего объяснения за закрытыми дверями кабинета. Да и зачем бы им это делать?! И, к тому же, они к финальной сцене все уже разошлись по домам! Точно всё, кроме меня (а я, замечу в скобках, сам ничего точно не знал и не помнил – в голове по-прежнему была информационная каша), могли знать только трое: Давид Ильич, Елена Никоновна и Владимир Иванович! Ни на Давида Ильича, ни на Елену Никоновну я ответственности за такой поступок возложить не мог! И, хотя я не знал, что сейчас испытывает Давид Ильич, каково ему этим вечером и физически, и психологически, как справляется с последствиями произошедшего его не слишком здоровый организм, какие беседы он ведет со своими «ангелами-хранителями» и «лукавыми соблазнителями» (а то, что сегодняшние события станут предметом таких бесед, было для меня несомненным), но поверить в то, что Давид Ильич из того пуда соли, который мы с ним вместе съели за эти годы, выделил такую ее щепотку и с таким садизмом «насолил» мне ею, я не мог бы даже в героиновом бреду! Да и элементарных навыков работы с компьютером, необходимых для физического изготовления лично, без чьей-то технической помощи, такой бумаги у него просто не было! А что б в такое дело вовлекать постороннего, даже, скажем, Самвела (никто кроме него не мог и изготовить документ и положить его в мой почтовый ящик) – это было за пределами моего понимания! А уж о Елене Никоновне и говорить нечего – она этого сделать не могла, потому что… НУ НЕ МОГЛА! И, как ни чудовищно было это предположение, я на какое-то мгновение поверил в то, что именно Владимир Иванович из каких-то непонятных мне «гусарских» побуждений устроил эту глупую шутку. И глубоко прав С.Хоружий, когда утверждает: «Нет, на поверку, личности, которая бы не была темной личностью, клубящимся облаком обличий»! Под шкурой всякой овцы прячется волк, под шкурой которого – овца, прикрывающая волка… По латыни – уроборос, а по-русски – матрешка! Почту приносят раз в день, по утрам, значит, эта бумага попала в ящик до того, как прокатился вал сегодняшних событий. И только Владимир Иванович, как он сам мне говорил, предчувствовал эти потрясения. И не только предчувствовал, но, судя по содержимому моего почтового ящика, готовился к ним! И всё, что он сегодня совершил, он заранее тщательно продумал, спланировал и подготовил, как и положено кадровому военному, включая и такие «мелочи», как фланелевый пиджак цвета маренго «а ля Мефодий Филиппович» и особые курительные принадлежности. Вспомнилось и то, что именно сегодня в курилке Владимир Иванович вдруг спросил меня: «А знаете ли вы, Юрий Александрович, что в 1899 году, по инициативе руссийского императора Николая II состоялась конференция в Гааге, а затем был учрежден международный трибунал, то есть третейский суд, и началась международная регламентация правил ведения войны?». Разумеется, я этого не знал, чем доставил ему большое удовольствие: «Не вы один книжки умные читаете! Мы тоже кое-какие брошюрки иногда полистываем!». Я тогда ещё мельком подумал, что вот он-де, как человек военный, так глубоко «копает под шефа», что даже об ответственности своей задумался! Но я быстро понял, что хотя бы на этом участке сегодняшних «военных действий» Владимир Иванович совершенно ни при чём. Осознание этого произошло после повторного и более внимательного чтения самого документа. Оправдан был Владимир Иванович по целому ряду причин. Во-первых, к нему не в меньшей степени, чем к Давиду Ильичу, относились сомнения в технической способности изготовить на компьютере такой документ. Правда, о возможных его помощниках я ничего не знал. Во-вторых, изощренные странности и ошибки документа, никак не связанные с главной предполагаемой целью его изготовления, а именно – напугать, предупредить или просто расстроить меня – одновременно совершенно не соответствовали и моим представлениям о структуре менталитета Владимира Ивановича. В-третьих (и это главное!), он ведь действительно не знал, буду ли я вообще на работе в этот день! Более того, если бы кем-то все это действительно планировалось, следовало исходить из того, что меня на работе не будет! Ведь решил-то я прийти только в самый последний момент, буквально за 15 минут до начала рабочего дня! Теперь об этих «изощренных странностях» самого документа… Начну с очевидных. Бросаются в глаза странные особенности оформления и лексики. На бумаге вверху изображен герб – двуглавый орел с тремя коронами, поднятыми крыльями и скипетром и державой в лапах. А взгляните на любую нашу монету номиналом от рубля и выше – наш орел без корон, с опущенными крыльями и с «голыми руками»! В тексте использована архаическая форма – «Российская (вместо правильного «Руссийская») Федерация». И какое-то детское написание названия города – «Москва» вместо исконного «Мошква». Интересно было бы узнать у Максима Мошкова – потомственного мошквича и патриота родного города – есть ли в его знаменитой библиотеке серьезные исследования, в которых хоть как-то обосновывается такая искаженная транскрипция корня «Мош»? Почему вообще может возникнуть замена звучной значимости корня «Мош» с удлиненной, мистически-торжественной, почти удвоенной длительностью звучания звука «ш», как это было принято в средне- и североруссийском произношении слова «Мощь», на инфантильно-испуганное «Мос»? Ведь при малейшей нечеткости выговора (даже легком насморке!) оно превращается во вполне отчетливый «Нос». А при такой замене слово сразу же теряет свое эмоциональное наполнение мощью и величием народа, давшего такое звучное имя своей столице, и становится какой-то детской «дразнилкой»: Нос-ква! (в смысле «нос потек и по-лягушачьи заквакал!») Далее. Сейчас на календаре – осень 2004 года. А на документе – конец зимы 2005! Ну кому и ЗАЧЕМ может быть нужна такая «мистификация» хронологии? И, наконец, самое главное. В документе идет речь о некоем государстве, у которого настолько плохо состояние бюджета, что не хватает средств даже на смехотворно-копеечные выплаты грошового вспомоществования действительно нуждающимся людям, у которых буквально нечего есть, а на попечении ещё «семеро по лавкам» несовершеннолетних нахлебников или инвалидов-стариков. И вот даже на них денег нет! Я представляю себе рыдающего заместителя руководителя Департамента Мельникова С.А. Он понимает, что строгое исполнение им своего служебного долга и Приказа №22 обрекает детишек на нищенствование и воровство, несовершеннолетних девочек – на занятие проституцией, стариков и инвалидов – на унизительное попрошайничество, но что он может поделать?! Казна-то пуста! А у нас в Руссии все идет более-менее нормально. Я не хочу, конечно, сказать, что экономика очень уж хороша, но нефтелолларды не просто «капают исправно», но буквально льются переполняющим казну потоком и уж все социальные программы обеспечены сполна! Всё это однозначно для меня свидетельствует – это документ не из нашего мира. И не зря сегодня все так сошлось – статья Переслегина, встреча с призраком Куца, песня в метро и вот теперь – этот документ. Я уже вполне отстраненно воспринимал ассоциативную связь документа с сегодняшними событиями в офисе. И не она занимала меня в первую очередь. Мне хотелось подробнее ознакомиться с работами Переслегина. В них я хотел найти какие-то научные корни всей этой «мистики». И я полез теперь уже в свой электронный почтовый ящик – там должно было быть отправленное мною утром письмо со статьей Переслегина… Но прежде, чем «погружаться в компьютер», я решил слегка «промочить горло» и пошел на кухню. Наташа, понимая, что я сегодня не очень склонен к разговорам, ушла к себе и смотрела по телевизору какой-то старый советский фильм. Но она позаботилась обо мне – моя любимая черная кружка из непрозрачного стекла стояла рядом с чайником. Я решил выпить кофе – свежая банка «Чибо», купленная сегодня Наташей, уже стояла в шкафу. Две ложки на кружку, кипяток… Сахара не нужно – нужен только аромат… Но что это? Из-под чайной ложечки всплыл пакетик «Эрл Грей»! «Выпьем чаю, лицо, чтобы раздвинуть губы». Оказывается, Наташа, памятуя, что когда я нахожусь во власти какой-то проблемы (а сегодня она явно видела именно такое положение!), то могу забыть элементарные бытовые вещи, не только поставила кружку, но и положила туда пакетик чая! И у меня получился коктейль двух любимых напитков… Ладно, сегодня все смешалось настолько, что мне уже было все равно. Кофейный чай, чайный кофе – какая разница?.. Я взял кружку и отправился к ждущему меня компьютеру… О знакомстве с новостями из мира науки, загадках цветового восприятия окружающего мира, счастливом мутанте из американовского города Калабасас, а также о возможных цветах нашего флага в иных мирах. Схоластика, ты скажешь. Да, схоластика и в прятки с горем лишенная примет стыда игра. Но и звезда над морем – что есть она как не (позволь так молвить, чтоб высокий в этом не узрила ты штиль) мозоль, натертая в пространстве светом? Адрес электронного почтового ящика у меня теперь новый, я завел его только неделю назад, а потому спама практически не было. Зато пришли очень любопытные рассылки. Я очень люблю одну из них – «Новости науки». Раньше, во времена моей юности, научные «последние известия» приходилось вылавливать из многочисленных научно-популярных журналов (я очень любил «Химию и жизнь», «Науку и жизнь», «Знание-Сила», «Технику – молодёжи» и «Землю и Вселенную»), но и они доносили новости с большим опозданием. Помню, как долго приходилось ждать, скажем, первых подробных фотографий Луны с американовских станций «Рейнджер», «Маринер» и даже «Аполло»! В газетах их не публиковали из-за идеологической «несообразности» таких материалов (не должен был советский человек узнавать о научных достижениях американов из наших газет – там писали только о наших успехах), а в журнале «Земля и Вселенная» (с очень, естественно, скромным по тогдашним понятиям тиражом в 53 тыс. экз) «свежая информация» в плохом полиграфическом исполнении появлялась только через 3-4 месяца (журнал выходил 6 раз в год). Так что те, кто сегодня запросто лезет на сайт NASA и скачивает картинки с Марса или Титана в режиме one-line, и представить себе не могут чувств своих дедов, когда к ним в руки попадал свежий номер журнала «Америка» с отчетом о лунной экспедиции «Аполлона-12»! Садизм власти заключался в том, что журнал этот не был «запрещенным», более того, на него даже официальная подписка была, но счастье реально подержать его в руках выпадало совсем немногим. И возможность регулярно его читать свидетельствовала о доверии к нему власти и избранности такого читателя даже больше, чем наличие в кармане партбилета – далеко не все партийные могли похвастать таким доверием. Что уж говорить о беспартийных… …А в сегодняшних новостях я обратил внимание на несколько заметок, которые как-то резонансно совпали с новым для меня взглядом на многомирие. Первой оказалась вот эта. Загадки зрения. В классической энциклопедии конца позапрошлого века Брокгауза и Ефрона статья «Глаз» занимает 24 страницы мелкого шрифта и сопровождена вклейкой в виде двух моделей, сконструированных из двенадцати (!) слоёв отдельных элементов-листочков, некоторые из которых содержат ещё и прозрачные вставки, причем общее число рисунков на этих слоях равно 14, а число пронумерованных деталей структуры глаза составляет 88. Так что человеческий глаз – это действительно сложнейший прибор. Сегодня же нас интересует только одно его свойство – способность различать длины волн попадающего в него света. Не будем отклоняться в сторону обсуждения природы и механизма ощущения цвета – этот вопрос до сих пор остается острым и дискуссионным и в физиологии, и в психологии, и в философии. Наука пока не может объяснить, что же такое зрительный образ, эта «мозоль, натертая в пространстве светом». Эту же мысль на языке науки один из главных создателей квантовой механики Э.Шредингер формулирует поразительно просто и откровенно: «Ощущение цвета невозможно объяснить в рамках объективной картины волн света, имеющейся у физиков». Поэтому и мы удовольствуемся здесь только «чистой физикой» - спектральной чувствительностью глаза. К сожалению, эта функция нашего зрения оставляет желать много лучшего! Рецепторами, воспринимающими свет в нашем глазу, являются специальные клетки двух видов – палочки (около 99%) и колбочки (не более 1%). Такое соотношение и сформировало наше цветовосприятие – наш спектр состоит из трех цветов – белого, ринового различных оттенков, и черного. Поскольку количество колбочек (а именно они и содержат особые вещества, по разному чувствительные к разным участкам спектра) в человеческом глазу столь мало, какие-то дополнительные различия в цветах предметов мы ощущаем только при очень ярком освещении. К тому же «истинно мы видим» - и то в редких благоприятных условиях - только три цвета: огненный, небесный и листвяной. Именно к этим длинам волн и «приспособлены» три «начинки» различного типа колбочек. Ученые считают, что наличие колбочек – это рудимент, сохранившийся у человека со времен, когда его «предки» были рыбами. (Кстати, как отмечает Э.Шредингер, «дальний конец» воспринимаемого нашим глазом участка электромагнитного спектра совпадает у нас с пчелами. Вот такая «рыбно-пчелиная» химеричность, оказывается, присуща нашему зрению!). Чем больше приемников в сетчатке с частично перекрывающимися кривыми спектральной чувствительности, тем меньше вероятность неразличения окрасок при разных условиях освещения. Увеличение размерности цветового зрения — способ борьбы с проблемой изменения окрасок при различном освещении. Возможно, именно поэтому у рака-богомола, живущего на многоцветном коралловом рифе в постоянно меняющихся условиях освещения, появилось не 3 как у рыб и – рудиментарно - у нас, а 12 полноценных типов «цветных» зрительных рецепторов! Эта фантасмагория цветов в голове рака столь же недоступна нашему воображению, как недоступна ему симфония запахов, исполняемая каким-нибудь городским сквериком для прогуливаемых в нем собак. Тот факт, что у нас очень мало колбочек, косвенно свидетельствует и о том, что «прародитель» современного человека был аборигеном тех мест, где световой день был в среднем короткий и общее освещение даже днем – сумрачное. Этому наиболее соответствуют лесные массивы северной Европы, Сибири и Канады. И потому генетическим прапредком всех ныне живущих людей был, вероятно, кто-то из финнов, тунгусов или чукчей. (Хотя последнее – сомнительно. В то время, когда на Чукотке или Аляске бывает свет, его там сумрачным не назовешь). Разумеется, нельзя исключить из этого списка и русских, о чем подробно рассказано в книге Н.Р.Гусевой «Русский север - прародина индо-славов: Исход предков арьев и славян» Особое внимание Н.Р. Гусева уделила тому, что во всех без исключения религиозных учениях присутствуют указания на то, что местонахождение рая в древних мифах прямо или косвенно связано с Северным полюсом, отразив тем самым древнюю прапамять о происхождении человечества с далеких северных земель, что объективно подтверждается данными и таких наук, как палеогеография, палеогеология и др. Генетика утверждает, что ген, кодирующий палочковый опсин, расположен в хромосоме 3, небочувствительных колбочек — в хромосоме 7, а огненночувствительных и листвочувствительных колбочек — в X-хромосоме. Обычно у человека в каждом глазу около 150 млн палочек и до 1,5 млн колбочек. Но вот у одного жителя американовскогоского городка Калабасас (этнически – выходец из Чада) при медицинском обследовании была обнаружена странная аномалия зрения. Он по цвету (!) легко может отличить ломтик апельсина от ломтика лимона! Подробное обследование показало, что у него общее число палочек и колбочек в сетчатке одного глаза достигает примерно 140 млн., из них около 7 млн. колбочек. Возвращаясь к вопросу о восприятии цвета можно только позавидовать этому американовцу – его генетическая аномалия даровала ему чудесное разнообразие красок окружающего мира. И, может быть, если бы мы увидели его глазами обыкновенную лужайку или полянку в ясный солнечный летний денек, она представилась бы нам поразительно разноцветной – соцветия, листья, бабочки – все заиграло бы палитрой разнообразных красок. Прочитав об этом американовском счастливчике я подумал, насколько частной является та картина мира, которую мы видим! И как разнообразны могут быть эти картины в других переслегинских мирах! Ведь даже в рамках «нашей физики» «наша физиология» может быть столь различна, что при контакте представителей разных миров возникнет проблема идентификации не только исторической памяти, но и просто текущей окружающей реальности… И, скажем, в одной истории, мы имеем наш флаг бебучёр, в какой-то другой – белорик, а в третьей какой-нибудь – белориз. Последние два слова я просто сейчас придумал, они – вполне бессмысленные сочетания букв, как-то похожих на «настоящее слово», но теперь я думаю, что ведь в каких-то мирах они – вполне осмысленные лексемы, за которыми стоят свои исторические аналогии и символы, в этих мирах живут люди, в чем-то очень похожие на нас, а в чем-то – совершенно другие, там тоже кипят свои страсти и совершаются поступки, складывающиеся в свою жизнь. И вряд ли стоит высокомерно объявлять их «фантазиями, порожденными нашим мышлением». Если признать, что наше мышление может породить такие «фантазии», то почему бы не признать и обратной возможности – это их мышление породило нас как «фантазии»? Кто тут Пигмалион, кто – Галатея? Как вообще можно найти «истинное начало» у Вселенского Уробороса? Я отхлебнул из кружки с кофейно-чайным коктейлем и понял, что он не будет гармоничным без рюмки коньяка. Идти на кухню не хотелось, и я достал бутылку Hennessy Timeless. Когда-то мне подарил ее Сан Саныч Сидоров из Челядьевска. Вот уже несколько лет она пылилась в шкафу. Я не знал, что это за коньяк, но справедливо решил, что «в подмесь» к моему коктейлю он сгодится не хуже, чем ММА к 76 бензину. И оказался прав – такую тройную смесь можно было уже пить не без удовольствия… О другой научной новости – особенности температурного поля спутника Сатурна Энцелада, возможном деструктивном вмешательстве в дела Солнечной системы космических евруев, а также о применении принципа Амакко к сложным гносеологическим вопросам. Так барашка на вертел нижут, разводят жар. Я, как мог, обессмертил то, что не удержал. Следующей из новостей науки, привлекших мое сегодняшнее внимание, была коротенькая заметка из области планетологии, которая всегда интересовала меня. Эта ветвь астрономии особенно бурно «заколосилась» в последние годы, когда космонавтика позволила и «поглазеть накоротке» и даже «пощупать» многие из небесных тел, бывших многие годы просто «туманными пятнышками» на фотопластинках астрометристов. К слову сказать, вот уж лет 10, как нет ни фотопластинок – их полностью вытеснили ПЗС-матрицы, ни самих астрометристов у окуляров телескопов – они теперь сидят не у телескопа, в любую жару или холод при температуре окружающей среды (бывало даже и внутри него, как на крупнейшем одно время 5-метровом рефракторе обсерватории Маунт Паломар), а в комфортных кабинетах у дисплеев своих компьютеров. Ушла «внешняя романтика» астрономических наблюдений, но ещё более захватывающей стала романтика осознания необычности полученных результатов, поскольку природа высыпала их в изобилии перед новыми техническими средствами наблюдения: «Как сообщает Reuters, область повышенной температуры располагается на южном полюсе одной из 34 сатурнианских лун, носящей имя Энцелад. Ее существование опровергает все традиционные представления астрофизиков о строении небесных тел, в соответствии с которыми самыми горячими зонами планет и их спутников являются не полярные, а экваториальные зоны. «По всем законам там не должно быть повышенной температуры», – прокомментировал открытие один из научных сотрудников проекта Cassini Джон Спенсер. «Обнаружить ее на полюсе Энцелада все равно, что доказать, что в Антарктике теплее, чем в экваториальных районах Земли. Все это очень странно», – подчеркнул он. До недавнего времени ученые считали, что самой «теплой» частью Энцелада является его экватор, где температура достигает минус 193 градусов по Цельсию. Однако, как оказалось теперь, на южном полюсе планеты она на 11 градусов выше. «Южное приполярье Энцелада чем-то существенно отличается от остальной планеты, и это буквально бросается в глаза», – заявил Спенсер. И, как поспешили заявить некоторые ученые, единственное объяснение открытому феномену заключается в том, что силы, его вызвавшие, находятся вне Энцелада». Я вспомнил, как Энцелад поразил всех своими многокилометровыми фонтанами, сфотографированными зондом «Кассини». И вот теперь – новая загадка? Лично у меня сразу же после прочтения возник вопрос: «Какие такие «внешние силы» могут нагреть на 11 градусов полярную зону 500 километровой загадочной ледяной глыбы Энцелада,?». И ответ напрашивался очевидный. «Так барашка на вертел нижут, разводят жар». Это возможно, только если какая-то «сверхцивилизация» с непонятными целями разместила в космосе на орбите вокруг Энцелада какое-то «инфракрасное зеркало» и греет с его помощью тамошнюю «Антарктиду». А одно только то, что создатели зеркала к тому же способны многие годы поддерживать его орбиту в условиях гравитационных возмущений в системе Сатурна свидетельствует – это действительно «сверхцивилизация»! То есть получается, что какие-то хитрые «космические евруи» (а только они и могут, как подумает значительная часть наших читателей, тратить миллиарды своих «космошекелей» на игры с Энцеладом, когда на Земле руссийскому мужику опохмелиться нечем!) все-таки присутствуют в Солнечной системе? Но такое объяснение – вполне естественное, как мне кажется! – дает полную свободу применения в данном случае принципа Амакко. И тогда можно предположить – это не будет, как мне кажется, более невероятным, чем искусственное инфракрасное зеркало – что мы столкнулись с проявлением особой анизотропии пространства. Т.е. того, что в разных пространственных точках действуют разные законы физики! Эту идею высказал один мой Нюрнбергский знакомый несколько лет назад и вот теперь она, возможно, получает такую неожиданную поддержку! Хотя надежды на это, прямо скажу, пока немного, но «приз», который может получить физика в случае, если это все-таки окажется правдой, не меньший, чем она получила в 1995 году после знаменитого доклада Эдварда Виттена на конференции по суперструнам. Виттен тогда как раз в очередной раз укрепил понятие изотропности мироздания, объединив пять теорий струн в одну. Но также, как нельзя бесконечно сжимать объем пространства (начиная с планковской длины усилия по сжатию приведут к его расширению), так и нельзя, как мне кажется, доводить понятие изотропности до абсурда. Природа не любит, когда ее «загоняют в угол». И вот уже и от авторитетных физиков слышим: «в физике могут быть законы, разные в далеко удаленных частях вселенной». А раз так, то почему бы не предположить, что под Южный Полюс Энцелада забрался какой-нибудь межгалактический метеорит из зеркального антивещества? Или – уж пускаться во все тяжкие, то без тормозов! – залетела на Энцелад капелька кваркового вещества (его сам Виттен представил публике), внутри которой магнитное поле вморожено, как у магнитара. И это магнитное поле, плотность которого как у белого карлика, тыща тонн в наперстке, (мне об этом по секрету говорил Сергей Монахов, а уж он-то астроном изрядный!), потихоньку «вытекает» из капельки и греет Энцелад… А, может быть, это и вовсе какие-нибудь переслегинские «параллельные миры» с «другой физикой» так проявляются?.. Здесь я осознал, что эта серия моих «домыслов» лежит на той дорожке, на которую Лукавый, под флагом принципа Амакко, увлекает нас при столкновении с чем-то действительно непонятным и загадочным. И не я первый, кто не устоял перед таким соблазном. Вот ведь ещё Уильям Блейк в своей поэме «Бракосочетание Неба и Ада», созданной в конце XVIII века, писал: «Путь избытка ведет ко дворцу мудрости». А путь Лукавого – это же ведь неизбежно и путь Творца (ничто не бывает без воли Его, даже «свобода от веры в свое безверье», как выразилась однажды Е.Лапешева!), но путь «особый», как бы «в обход». Снова появляется вселенский уроборос… И прав был Лавентинов, когда писал мне: «И так бывает. И этак тоже»… Я закурил очередную папиросу, сделал пару глотков чайно-кофейно-коньячной смеси и решил, что хотя, как показал эксперимент, «и это возможно», но все же лучше, когда чай пахнет бергамотом, а не кофейным ароматом с коньячным букетом. Впрочем, может быть к такому эффекту нужно только привыкнуть, как и к анизотропии Пространства?... О практической реализации мгновенной связи на любых расстояниях, возможном нарушении клятвы журналистом Лесновым, введенном В.Коробейниковым понятии «перпендикулярный параллельный мир», а также об инженерной деятельности императора Цинь Ши Хуанди Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря, дорогой уважаемый милая, но неважно даже кто, ибо черт лица, говоря откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но и ничей верный друг вас приветствует с одного из пяти континентов… Ещё одна из обративших на себя мое внимание заметок была подписана оригинально – инициалом Л. Прочтя текст, я подумал, что ее автором мог бы быть известный научный журналист Леснов, если бы он некоторое время назад вдруг не прекратил выступать и в газете «Известности», и в Интернете. Странная это была история! Преуспевающий журналист вдруг перестает писать, при чем никаких причин, внятно объясняющих этот поступок, вроде бы не наблюдается. Понятно, что душа человеческая, также как и «вода во облацех», темна. И, пожалуй, не стоит эту темноту ворошить – решил автор подписаться инициалом, значит, и быть по сему! А заметка была посвящена «мгновенной связи» и возможной физике этого явления. Автор идеи – ленинбургский радиоинженер Владимир Коробейников – особо подчеркивал, что возможно теоретическое объяснение этого феномена без нарушения эйнштейновского постулата о предельности скорости света. Вот текст этой заметки: Настоящие ученые бывают разными: благообразными и благовоспитанными, как Нильс Бор, или задиристыми и экстравагантными, как Николо Тесла или Джорж Алфинзбург. Могут настоящие ученые и подурачиться, показав публике язык, как это продемонстрировал Эйнштейн. Но одинаковы они в одном – сообщают людям нечто совершенно необычное о мире, в котором мы живем. И потому я отношу ленинбуржца В.Коробейникова к настоящим ученым. (Он, кстати, вполне сочетает в своем характере упомянутые выше черты и Бора, и Тесла, и Алфинзбурга и Эйнштейна). Судите сами. Вот что однажды сказал Владимир Иванович: «Ученые ищут возможности существования параллельных миров, а целесообразно искать их в перпендикулярном направлении!». Один этот афоризм вписывает имя В.И.Коробейникова в историю науки о многомирии столь же прочно, как известный афоризм В.С.Черномырдина вписал его имя в руссийскую словестность – «хотели как лучше…» Но о параллельных мирах – разговор особый. А пока сообщу, что В.И.Коробейников придумал (и, кажется, осуществил!) способ мгновенной связи с любой точкой Вселенной. Вот как он описывает идею принципа: «С точки зрения общей энергетики, абсолютно неважно в каком месте колоды карт находится козырный туз. В руках опытного шулера этот туз попадает в нужное ему место колоды. Энергетика в полном баллансе, но туз переместился в нужное шулеру место, а это информация и очень важная для игроков. Вот в этом и состоит образное и фундаментальное отличие обычной электрической связи от мгновенной. Иными словами, у обычного передатчика в фиксированный интервал времени происходит изменение энергетики сигнала (мгновенное значение или количество карт в колоде), а у мгновенного нет (только тусовка карт, а это информация) - ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ разница». Что же «тусуется» в устройстве Коробейникова – так называемой ЕН-антенне? А «простые электроны»! Вот как описывает это сам Владимир Иванович: «Предположим, вы соединили два магнита одноименными полюсами (расталкивание). Там есть плоскость между магнитами, где "непонятно", что больше доминирует, один или другой магнит. Теперь проведите такой же "фокус" с переменным магнитным полем от противофазных катушек. Что будет делать электрический заряд (электрон) в этой плоскости? Две силы Лоренца толкают его в разные (противоположные) стороны. Ему ничего не остается, как крутиться на месте волчком то в одну, то в другую сторону. Отсюда возникает спиновой магнитный момент с совершенно иными электромагнитными свойствами». То есть Коробейников практически использовал то самое загадочное свойство электрона – его спин – которое так трудно объяснить студентам! Но ведь этой «тусовкой» нужно уметь как-то управлять. И где взять такой управляющий вектор, который бы смог передавать информацию? Рассмотрев структуру электромагнитного поля заряженного шара Коробейников показал, что один его вектор Hz полностью «игнорирует» Специальную Теорию Относительности уже тем, что в его математическое выражение не входит скорость света, тогда как у остальных векторов она присутствует в виде произведения электрических и магнитных проницаемостей. Магнитная линия этого вектора Hz уходит в бесконечность и возвращается из бесконечности. Она охватывает сразу всю Вселенную. Очень заманчиво использовать именно её (Hz) для МГНОВЕННОЙ связи на любые расстояния. Кроме объяснения самого Коробейникова можно предложить и другие. И, прежде всего, это спинорные духи Е.Лапешевой. Ей удалось показать, что «спинорные духи изменяют ток проводимости других спинорных полей». Ну, чем не «дирижёры» электронного оркестра ЕН-антенн? Я не буду утомлять читателя мудреными формулами и описаниями радиотехнических устройств – любопытствующие легко найдут эту информацию в Интернете – но сразу скажу, что устройства, практически осуществившие такую связь, уже созданы! Уже с их помощью получены сообщения «ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…». Правда, пока не доказано, что это действительно мгновенная связь. Однако то, что она существует и работает на каком-то новом принципе, не вызывает сомнения у специалистов. А 17 июля этого года устройство было испытано даже в условиях подводной работы! Я тут же написал Владимиру Ивановичу письмо и поинтересовался полученными результатами. Ответ пришел неожиданно быстро – так совпало, что в этот поздний час он тоже сидел за своим компьютером. Писал Владимир Иванович слегка иронично, но чувствовалось, что результатом он доволен и даже гордится им: « Вот в своих экспериментах я и "попросил" электрон(ы) сделать мне электромагнитное излучение РЕНТГЕНОВСКОЙ природы. Поэтому принять сигнал от слабенького транзистора со дна озера не представило проблем. Вот только контрольная обычная антенна не захотела реагировать на этот сигнал и выдать его на усиление, а "антенное недоразумение" на другом приемнике легко принимало сигнал со дна». Однако, при чем тут «параллельные миры» может спросить иной читатель? А вот причём! Снова передаю слово Владимиру Ивановичу: «Имя китайского императора Цинь Ши Хуанди переводится как «Сошедший с небес». Вполне не праздный вопрос: «А с планеты какой звезды на небосводе?» Мгновенная связь делает этот вопрос очень серьезным, и вот почему. Обычная радиосвязь в пределах Солнечной системы имеет временную задержку, измеряемую минутами. Это проверено на связи с удаленными космическими аппаратами. Эти минуты хоть и неудобны, но приемлемы. «Сошедшему с небес» потребовалось передавать информацию на расстояния много больше размеров Солнечной системы, и временная задержка прохождения радиосигнала, измеряемая световыми годами, его никак не устраивала. Необходимо было переходить на мгновенную радиосвязь. Для этого решили использовать магнитное поле планеты Земля. На огромных расстояниях оно имеет очень высокую однородность. Осталось подвигать его электрическим сигналом, проходящим по очень длинному конденсатору, уложенному на поверхности Земли. В самом деле: электрический заряд Земли - около 600000 Кулонов - мы не в состоянии изменить, а потому не можем изменить и величину ее магнитного поля. Остается лишь один вариант динамики, когда dФ/dt=0. Это и было сделано. Для длинного конденсатора построили Китайскую стену. Представляет интерес, а на каких частотах шла радиосвязь? Ответ на этот вопрос довольно прост. При таком большом электрическом заряде и емкости Земли как конденсатора несколько меньше 1 Фарады подняться по частотам выше десятков герц проблемно. Остается довольствоваться очень низкими частотами. Чтобы подвигать магнитное поле Земли на несущей частоте 50 герц, необходим конденсатор длиной 6000 км. Именно так и было сделано. А это же длина Китайской стены! Многомиллионное население, строившее ее, не могло умножить 2 на 2, поэтому для них очень подходило объяснение строительства такого сооружения как защиты от набегов кочевников». Понятно, что император Цинь Ши Хуанди, который реально был посланцем иной цивилизации и реально связывался с родиной таким способом, является персонажем некоторой «параллельной истории», ибо в классической истории Китая и действия императора, и причины построения стены, имеют совершенно другие объяснения. А почему Владимир Иванович говорил о «перпендикулярной» параллельной истории? Да очень просто! Дело в том, что теория распространения сигнала с помощью вектора Hz предполагает, что электромагнитное излучение кроме привычной составляющей с волнами поперечной динамики включает и компоненту с продольной динамикой. И общее излучение описывается комплексным числом с перпендикулярным направлением действительной и мнимой осей. И в этом смысле «параллельные миры перпендикулярны эйнштейновской научной парадигме»! Л.» Я не до конца понял ни теорию В.Коробейникова, ни ее изложение «журналистом Л.», но, собственно, они оба и не утверждают, что уже создана эта самая теория. Почему бы, например, не предположить, что эта самая «электронная тусовка» есть следствие предсказываемого теорией струн для некоторых пространств Калаби-Яу резонансных колебаний, соответствующих новым взаимодействиям со сранительно небольшой интенсивностью и большим дальнодействием? Понятно, что «официалы» никак не реагируют на материалы Интернета (это, кстати, как я уже понял, стало «правилом хорошего тона» академических и других, считающих себя «респектабельными», научных учреждений), а, значит, «по жизни» - приняли все это в штыки. Сам Интернет по поводу работ В.Коробейникова гудит (но мало ли по поводу чего «гудит Интернет»!), однако в этом гудении очень много эмоций относительно личности автора (и «заносчив» он, и «занозист» и «недостаточно образован»), но мало – по существу. А если что и есть, то тоже, как правило, ершисто и амбициозно. Короче – обыкновенная сейчас ситуация при обсуждении идей «альтернативной науки». Меня же во всем этом поразило только то, что высказанная Переслегиным на основании исторического материала идея о реальности параллельных миров проявилась в этой дискуссии совершенно независимо и шла она из физики, явно «навстречу» Переслегину. Однако, хватит «предисловий»! Я уже достаточно подготовлен, чтобы встретиться с теорией Переслегина «накоротке». И я отправился на Яндекс, предварительно глотнув чистого Hennessy Timeless. И, доложу я вам, это оказалось совсем не плохо! Пожалуй, в чём-то этот коньяк даже превосходил «Кутузова»! О моем знакомстве с сайтом С.Б.Переслегина, марксистско-диаматовских корнях его теории, соотнесении ее со взглядами Ван Кобо и интерпретацией А.П.Лычёва, зачаточном состоянии публикации её математического аппарата, плодотворном понятии «теней» альтернативных историй, а также о перспективах развития идей многомирия. Это не мы их не видим – Нас не видят они. «Он выражает беспартийный взгляд на вещи, на явления, – в основе своей диалектический; но ряд – но ряд его высказываний внове для нас». Я открыл его сайт и начал «прорабатывать» выставленные там материалы. Их оказалось много, и многие были очень интересны. В основном это были различные анализы и комментарии на книги и статьи фантастов (братьев Иосифовых в первую очередь), историков и философов. Чувствовалось, что автор – действительно умный и оригинальный аналитик, видящий порой такие пласты чужих построений, которые не были доступны авторам оригинальных текстов. Но где же сама переслегинская теория параллельных миров? Где ее математический аппарат? Целостного и систематического построения я, к своему сожалению, так и не нашел… Пришлось довольствоваться отдельными яркими мыслями в различных его статьях. Вот что пишет он по поводу «общей теории систем» - базиса своих дальнейших построений: «Cдержанной была реакция философов-марксистов и на появление общей теории систем Богданова-Берталанфи. Иногда системщикам приписывалось даже намерение «подменить своими приемами марксистеко-ленинскую философию.» При этом игнорировалось как исконно системное содержание марксистcкой диалектики, выраженное в классическом законе вcеобщей связи явлений, так и стихийный диалектический материализм большинства системных публикаций. Сейчас непредубежденному человеку трудно отрицать, что общая теория систем порождает естественный понятийный аппарат диалектического материализма, согласующийся с языком современной науки; в свою очередь диамат представляет собой естественный философский базис общей теории систем. Оба эти мировоззрения неразрывно связаны и в своем развитии обогащают друг друга». Да-а… Сказать, что это объяснение вызвало у меня восторг, не могу. Я понимаю, конечно, что во времена, когда это писалось, привязка к «марксизму-ленинизму» была необходимым элементом любой философской работы, предназначенной для печати. « Я не виноват, меня так учили!», - сокрушенно скажет сегодня автор. И традиционный ответ на эту «отмазку»: «Всех учили, но зачем ты стал первым учеником?» нельзя в данном случае рассматривать как осуждение. Переслегин ведь действительно стал одним из «первых учеников» той эпохи! И внес «немалую лепту» в то, чтобы сегодня преодолевать её зашоренность. Но – и это трагический обертон судьбы всякого интеллигента, вышедшего из «шинели диамата» – шлейф этой шинели всё тянется и тянется, и не видно ему конца… Хуже другое. Мне кажется, что ссылка на авторитет диамата не была только формальной, что сама концепция Переслегина пронизана именно диаматовским пониманием и времени, и причинности. Вот ведь что выросло на этом фундаменте уже сейчас, когда никакая «маскировка под марксизм» совершенно не нужна: Третий закон структуродинамики (это переслегинский вариант «общей теории систем») дает возможность формально определить исторический прогресс, как процесс движения системы от абсолютного прошлого к абсолютному будущему. Здесь система В называется абсолютным будущим системы А, если разрешение динамических противоречий системы А порождает структуру системы В. Во внутреннем времени система всегда развивается от абсолютного прошлого к абсолютному будущему, однако, движение, параметризованное физическим временем, может содержать петли. Всякая такая петля является свидетельством системной катастрофы. Вероятно, в интернетовскую публикацию «вкралась опечатка» – не «исторический прогресс», а «исторический процесс». Ведь, вводя термин «прогресс», вообще бессмысленно обсуждать что-либо, связанное с реальностью стрелы времени – прогресс (или регресс – «отрицательный прогресс») является ее неизбежным следствием. Но в целом это – совершенно традиционное утверждение, «одетое» в одежды «структуродинамической» терминологии! И упомянутые здесь «петли времени» – не более, чем красивый термин. Он относится к понятию «внутреннего времени», которое, по Переслегину, связано с физическим только «метафизически». И из текста совершенно очевидна абсолютизация Прошлого и Будущего, глубоко противоречащая его же, Переслегина, концепции множественности историй. Во всяком случае тому ее варианту, который сложился у меня в сознании. Впрочем, если сам Переслегин полагает, что и физическое время в ветвях параллельных историй течет «параллельно» и сейчас «где-то» существует целостный мир с линейным временнЫм развитием от победы Учредительного Собрания в 1918 году до «нашего» 2004 года, то спорить с этим я не буду – аксиомы не обсуждаются. Более того, я соглашусь с ним в том, что такая целостная ветвь действительно есть. Но разойдемся мы, вероятно, в том, что он сочтет такую ветвь закономерным и единственно возможным следствием этой самой «структуродинамической» теории, а я – случайным и маловероятным следом некоего специального изыскания какого-то дотошного студента первого курса факультета метаистории некоего виртуального Мошковского Университета Мировоззренческих Наук или только одним пузырьком той пены, которая «иногда» воплощает Время. Разумеется, я не могу объяснить значение слова «иногда» во вневременном контексте. Мне не хватает для этого не чувства или понимания, а просто мастерства. Того мастерства, которым с избытком (хотя может ли быть избыточным мастерство?) владеет, скажем, Ван Кобо, сумевший выразить свои ощущения времени полно, точно, и, вместе с тем… загадочно! Вот что он пишет: «Мы взираем на Время как на некий поток, мало имеющий общего с настоящим горным ручьём, пенно белеющим на черном утесе, или с большой, тусклой рекой в пронизанной ветром долине и все же неизменно бегущей сквозь наши хронометрические ландшафты. Мы настолько привыкли к этому мифическому спектаклю, настолько склонны разжижать каждый кусок нашей жизни, что уже не способны, говоря о Времени, не говорить о физическом движении. В действительности ощущение такого движения извлечено, разумеется, из множества природных или по крайней мере привычных источников – врожденного телу сознания своего кровотока, древнего головокружения при виде встающих звезд, и, разумеется, общепринятых способов измерения, - ползущей теневой нити гномона, струйки песочных часов, рысистой трусцы секундной стрелки – вот мы и вернулись в Пространство». Ван Кобо и чувствует и выражает свои чувства о времени органично и оригинально. И, как мне кажется, ни «официальные физики», ни даже «неофициальные темпорологи» ещё не прониклись сутью идей Ван Кобо, завороженные и его литературным гением, и магией той «полочки», на которую его поместила молва в кунсткамере современной цивилизации – «Великие писатели». А у Переслегина получилось блюдо хоть и вполне съедобное (и, по сравнению со многими «интеллектуальными блюдами» современной литературы, даже вкусное!), но все же не мечта гурмана, а неплохая холодная закуска, по-русски – винегрет… А вот очень любопытная мысль! Переслегин, готовя свой винегрет, добавил в него и кусочки чего-то весьма деликатесного: «Социосистемный подход постулирует, что разум представляет собой не индивидуальное качество, но системный признак: специфическую форму взаимодействия социосистемы с окружающей средой. Тем самым, «носитель разума» подразумевает «систему носителей разума» — со своими специфическими организованностями. Придадим этой системе статус онтологического плана…» Из нее следует, что мои смутные представления о том, что моё «Я», которое сейчас читает эту цитату – только часть сложной системы, мультивидуума, «живущего» сразу во многих ветвях истории – как осознаваемых мною, так и не выходящих за рамки подсознания. Спасибо Переслегину за укрепление этого моего ощущения!.. Мне стало интересно – а насколько широко переслегинские взгляды распространены в Сети? То есть интерес относился к «реальной жизни», но я не мог провести «полноценного» социологического исследования и потому ограничился Сетью как «зеркалом реальности». Оказалось, что соображений и комментариев очень много! Значит, сама по себе идея многомирия уже завоевала умы значительной части интеллектуально-активного социума! И не я один живу со «скрытым онейроидным синдромом». Кстати, и среди интеллектуальных титанов этот «синдром» - отнюдь не редкость. Так, помнится, о Джойсе где-то было сказано, что «хотя только к концу творчества, в «Поминках», у него достаточно созрела своя, альтернативная модель истории, но уже с ранних лет ему были чужды обычные представления об истории как едином развитии и процессе, а книжные изложенья истории как связной и логичной цепи деяний и дат не вызывали доверия». Но было интересно, что же думают об «альтернативности» современники. Из того, что я успел пролистать в Интернете, особенно мне понравился комментарий А.П.Лычёва. Он интерпретировал теорию Переслегина весьма похоже с тем, как ее воспринял и я при первом с ней знакомстве: «Историк не является очевидцем исследуемых событий. Они либо произошли слишком давно, либо слишком масштабны для того, чтобы историк мог бы опираться на свой личный опыт (невозможно изучать напрямую форму Земли, находясь на ее поверхности). В связи с этим, история строится на основе "информационных следов" - косвенных сведений: от летописей и телепередач до глиняных черепков и циклопических развалин. Косвенные сведения, в том числе - документы, всегда требуют интерпретации. Даже если игнорировать тот очевидный факт, что авторы документов в огромном большинстве случаев политически, идеологически или религиозно ангажированы, все равно: "...источники отражают субъективную информированность автора. Увы, стремясь поведать потомкам правду, только правду, всю правду и ничего, кроме правды, отшельник в тесной келье может добросовестно заблуждаться." Как правило, проблема решается с помощью "контекстной интерпретации". Грубо говоря, историк "заранее знает", какие примерно события в данный период времени могли/должны были произойти. На основании чего и интерпретирует "информационный след". Представление же о том, как "должно быть", зависит от исторической теории, сторонником которой является данный исследователь. Например, увидев наскальный рисунок, где человек изображен с кругом вокруг головы, сторонник традиционной версии сочтет, что имеется в виду нимб, а сторонник теории палеоконтактов Э. фон Деникена заявит, что обнаружено изображение астронавта в шлеме. Абсолютно достоверных исторических свидетельств не существует. Всегда есть вероятность, что какой-то документ был неправильно понят, неверно датирован, что он - подделка и т. п. Поэтому, при желании, "неудобное" для данной исторической теории свидетельство всегда можно игнорировать. Подобная неоднозначность истории приводит к появлению разнообразных исторических мифов - конфессиональных, идеологических, национальных и т. д. Как это можно себе вообразить? Переслегин объясняет, как. Проще всего ситуацию представить себе следующим образом. Существует "Текущая реальность" (та история, которую мы знаем) и "Альтернативные реальности" (весьма вероятные, но отличные от Текущей; например, победа Оси во Второй Мировой и т. п.). Альтернативные реальности обладают способностью оказывать влияние на Текущую, отбрасывая на нее "тени" (понятно, что все эти термины столь же условны, как "вкус" и "аромат" кварков)». А вот это понятие «теней» альтернативных реальностей в «текущей» - просто «волшебный ключик»! С его помощью можно открыть двери многих и исторических и просто «бытовых» загадок. В том числе и той, которую сегодня буквально подбросили мне домой. Ведь она вполне объясняет попадание «Приказа№22» в мой почтовый ящик! Он, оказывается – просто «материальная тень» того пучка альтернативных историй, о которых можно сказать: «Это не мы их не видим – нас не видят они». В этих ветвях истории обо мне именно так «позаботились» «виртуальные образы» и Владимира Ивановича, и Давида Ильича, и Елены Никоновны и даже других наших барышень и мужиков! Что же касается «заблуждений», о возможности которых предупреждает Лычёв при интерпретации документов, то, и по правилам диалектики, и по закону симметрии, должны быть и обратные по смыслу «прозрения»! Т.е. случаи, когда уже состоявшуюся интерпретацию прошлого подтверждает вновь обнаруживаемый документ. И мне тут же вспомнился рассказ одного моего друга-литератора. Как раз недавно он рассказал на «дружеской пирушке» одну историю, которую я попросил его записать. Что он и сделал: «Однажды я просматривал в РГАЛИ какую-то «единицу хранения». Я уже собирался отнести папку хранителю, как мое внимание, уже не помню почему, привлекла одна бумага. Я начал читать ее. Это было донесение начальника Департамента полиции его непосредственному начальнику, министру внутренних дел. Речь шла о результатах наблюдения за жизнью некоего князя Васильчикова, которые велись полицейскими агентами, сообщавшими главному полицейскому чину обо всех передвижениях объекта своих наблюдений. Естественно, что по тем – дремуче совковым! – временам такой документ вызвал мое живейшее любопытство: действительно, тема полицейской слежки для нас всех была более чем злободневной. Частное лицо, становящееся объектом любопытства «органов», было персонажем просто-таки злободневным. Однако, по мере чтения, мной овладело странное чувство: мне все более казалось, что я уже читал что-то подобное. И это было вовсе не дежа вю! Все стало ясно, когда я дошел до упоминания имени женщины, бывшей подругой «разрабатываемого объекта». В документе ее называли госпожой Жадимировской. Ну, конечно, это был фрагмент сюжета незадолго до этого вышедшего и уже успевшего полюбиться романа Б. Окуджавы «Путешествие дилетантов»! В нем аналогичный персонаж звался Лавинией Ладимировской. Главные черты совпадали. Понятнее стал замысел (вернее, эта часть его) писателя. Дело не в элементарных аллюзиях, не в наряживании современников в псевдоисторические костюмы. Такой писатель, как Б. Окуджава не собирался держать фигу в кармане. Дело было в понимании художником соотношения частной жизни людей и претензий тоталитарной власти на ее контроль. Соотношение это пребывало неизменным во все времена. Дочитав документ, я снял с него копию, а потом проглядел листок использования, т.е. бумажку, на которой оставляли свои подписи все, кто документ читал. Имени Окуджавы там не было. Что это, мистика? Думаю, никакой мистики там не было и нет. Видимо, материалы эти могли быть сообщены Окуджаве его литературным секретарем, да и просто он мог почерпнуть сведения из другого источника». Конечно, «могло быть» и так, как думает мой друг. Но, в свете идей Переслегина и Лычёва, могло же случиться и «по другому», а именно так, что этот документ стал материальной «тенью» мира романа Окуджавы в нашем мире. Да и дальнейшее развитие событий в этой истории – робость моего друга перед Окуджавой, не позволившая тогда же прояснить связь документа с книгой, последующая пропажа копии при затоплении квартиры ее автора – только укрепляют меня в «теневой» версии… По мере размышлений над материалами переслегинского сайта я чувствовал себя все лучше. Отдельное спасибо А.П.Лычёву за то, что он почти окончательно избавил меня от сомнения в том, не погружен ли я в медицински-наказуемое онейроидное состояние?.. А «последний гвоздь» в этом вопросе забил сам Переслегин: «Сценарные стратегии, эксплуатирующие понятие мета-исторического континуума, находятся сейчас на стадии осмысления интеллектуальными сообществами России и мира. В обыденной жизни они, разумеется, не используются». Раз в обыденной жизни понятия многомирия пока не используются, будем пока считать слово «России» в этом тексте простой опечаткой. Но это значит, что ещё есть время и возможность приложить свои силы к участию в процессе приобщения несведующих и прозрения ослепленных! Закончив на этом «переслегинские штудии», я задумался – а в какой доступной мне области можно было бы самому поискать эти следы и «тени» альтернативных историй? Жаль, конечно, что пока не существует действительно «качественной» теории параллельных миров, основанной на квантовой механике. И, перефразируя известное стихотворение, можно только удивляться тому, что «нынче лирики в почете, ибо физики – в загоне». И что именно «лирикам» приходится прокладывать тропы в многомирие. (Хотя сам Переслегин по образованию физик-ядерщик, но «по жизни» - чистый гуманитарий). А то, что именно там, в основах квантовой механики, лежит начало научному осмыслению философского многомирия, у меня сомнений не было. Но физики молчат. А от Переслегина – хотя он, разумеется, ещё не все сказал в свои-то 45 лет! – пока внятного ответа нет… А «на «нет» и суда нет»! (Так добавил, выходя со скамьи подсудимых один «братан», ответивший перед этим на вопрос судьи о признании им своей вины за дачу взятки прокурору: «Когда есть деньги – нет вины!»). Теперь, после того, как у меня «образовалось» столь много «свободного времени», следовало искать способы его обмена на такие деньги, которые сняли бы и чувство вины перед сидевшим в последнее время на голодном пайке чувстве любознательности, и, одновременно, не посадили бы на такой паек все остальные чувства! И, конечно, такая область быстро нашлась. Иначе, почему бы меня так сразу потянуло на «переслегинщину»?... Я подумал о нумизматике… И на душе стало гораздо теплее, а пара глотков французского чуда усугубила то состояние благодушия, которое возникает при размышлении о чем-то особенно приятном... О нумизматике как вспомогательной метаисторической дисциплине, монете «севский чех» как одном из возможных объектов материального воплощения склеек ветвей руссийксой истории, моем решении заняться этим подробнее, а также о том, к какому ночному мороку привел последний за сегодняшний день глоток коньяка Hennessy Timeless. Ремесленный вкус – не искусство. Великий читатель поймет и прелесть отсутствия вкуса и великолепье длиннот. Нумизматические объекты как будто специально придуманы в качестве «вневременных меток времени». Их массовое количество в каждом конкретном «здесь и сейчас» делает их «незаметным» атрибутом практически любой бытовой ситуации с первого тысячелетия до н.э. и по сей день. А ситуации исторические – это определенные интегралы именно бытовых ситуаций в рамках существования данного кванта истории. И у современника (свидетеля) того или иного события, нумизматический объект (именно объект – монета, а не платежное средство – деньги) вызывает не больше эмоций и привлекает не больше внимания, чем воздух, которым дышат участники этого события, чем листва на окружающих их деревьях, или одежда на собеседниках, соратниках и противниках (опять-таки, именно одежда как таковая, а не ее функциональное предназначение в данной ситуации). Но воздух остается воздухом «всегда» (это действительно «постоянный множитель», который легко выносится за знак интеграла), листва с деревьев опадает, ботинки и платья – изнашиваются и выбрасываются, а вот монеты… Да, часть из них уничтожается при денежных реформах и физически переплавляется, но при исходной массовости тиражей чекана (почти всегда – миллионы экземпляров) просто по закону больших чисел оставшаяся часть живет долго. Конечно, они «теряются» (но в этом случае и «находятся» археологами или просто «огородниками»), они «прячутся в клады» (и, опять-таки находятся!), они просто пылятся в семейных «кубышках» или хранятся в банковских сейфах, музеях и коллекциях. Но во всех этих случаях сохраняются практически неизменными, надолго переживая те кванты истории, которые их породили. А вот их бытовая «незаметность» (ну кто обращает внимание на год чеканки или содержание их лапидарных надписей, форму букв или детали разных завитушек их орнаментов!) делает именно монеты очень «мобильным» элементом материальной культуры при разного рода пересечениях, склейках и обменах с параллельными историями! Я в этом убежден, а потому вполне могу последовать совету великого Шредингера: «Ученый навязывает лишь две вещи: истинность и искренность, навязывает их себе и другим…» Вот, скажем, такой пример. Монета, о которой не знают не только 100% «рядовых граждан», но и 99% историков и 90% нумизматов. Итак - «севский чех». Лично я узнал о существовании такой монеты от С.П.Акаева, моего нумизматического ньюсмейкера и воспитателя, а также и коллекционера «милостью Божией». Информация, как всегда, была точной, чёткой и интересной. А потому – недостаточной. Не найдя ничего в «стандартной» доступной литературе, я решил посмотреть, что говорится о севском чехе в самой мощной и доступной информационной сети – Интернете. Чего только не узнаешь по любому вопросу, пустившись в плавание по волнам Интернета! «В январе 1687 г. жалованные мастера Серебряной палаты Федор Федоров Простой, Семен Кондратьев Чекалин, Иван Федосеев и другие мастера и ученики, всего девятнадцать человек, были посланы в Севск, где осуществлялась чеканка местной окраинской монеты - "чехов", сделанных по образцу широко распространенных в крае польских полуторагрошевиков». Неискушённый читатель после прочтения этого может решить, что речь идёт о какой-то «местной монете», интересной только для краеведов да очень «узких» историков. И, подумавши так, ошибётся… Следующая ссылка тоже не вызывает особого энтузиазма - «севские чехи - поддельные польские монеты (полтораки, равные копейке), предназначавшиеся Алексеем Михайловичем для подрыва денежной системы Великороссии (Слободской Окраины) и Малороссии». Тот же читатель может подумать, что речь пойдёт о какой-то криминально-политической интриге царя Алексея Михайловича. И опять ошибётся! А эта информация из «Независимой газеты», безусловно, добавит адреналина в кровь искателям информации о чехе: «Сразу обращает на себя внимание первый стринг аукциона - монеты эпохи правления Петра I. И первый же лот представляет редчайшую монету, известную в количестве всего 26 (!) экземпляров. Это серебряная монета "Севский чех", отчеканенная по образу польского полторака в городе Севске в 1686 г предназначалась она для торговли с Польшей. Оценка лота 3-3,5 тыс. лолл.» Но, уверяю вас, и здесь легковерие (особенно излишнее в оценке лота и числа известных экземпляров) приведёт вас к серьёзным ошибкам. Так что же такое – этот «севский чех»?! Почему он так ценится нумизматами? Его изображение Вы найдёте в электронном музее на сайте известных украинских нумизматов Ю.Покрасса и С. Михайлишина в их электронном журнале «Коллекции Окраины». Не удивляйтесь плохому качеству сохранности показанного вам на этом высокопрофессиональном сайте экземпляра. Тут есть серьёзные обстоятельства, объясняющие тот факт, что монетами такого невысокого качества по праву гордятся украинские коллекционеры. А если вам захочется подержать монету в руках? В музеях вам её не дадут (там вообще большие строгости с прикосновениями к экспонатам), да и укажите мне музей, в витринах которого можно хотя бы увидеть «вживую» (я не говорю – пощупать!) севского чеха. Я таких музеев не знаю. Есть, конечно, аукционы, но они бывают редко, далеко не везде и те экземпляры, которые там выставляются (не на всяком аукционе и не всякий раз!), стоят очень дорого. Что же делать, как утолить «жажду ощущения»? Ответ прост – нужно искать. Ищите и помните, что заповедовал Иисус Христос в своей Нагорной проповеди на берегу Галилейского моря. Его глубины, если смотреть на них с обзорной площадки женского католического монастыря, построенного перед Второй мировой войной Муссолини на месте произнесения проповеди, до сих пор манят своими тайнами и скрывают множество сокровищ, в том числе и нумизматических. Слова Иисуса донёс до нас первый христианский нумизмат, бывший мытарь, евангелист и апостол Матфей: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете;» (Матфей, 7.7) . И помните – только «ищущий находит» (Матфей,7.8) , именно ищущий, а не мечтающий о поиске! Но – к нашему герою. Эта монета относится к одной из достаточно редких и явно недостаточно изученных типологических групп руссийской нумизматики. Я бы определил объединительные признаки этой группы так – монеты, предназначенные для хождения на территориях с нестабильной государственностью, т.е. там, где государственность ещё твёрдо не укрепилась или «существенно пошатнулась». К этой группе можно отнести, в первую очередь, выдающуюся находку А.И.Мусина-Пушкина – серебряник Ярослава Мудрого (XI век), и, далее по хронологии, руссийские имперские монеты, чеканенные для Молдавии, Пруссии, Польши, Литвы, Финляндии, в новое время – немцами для оккупированной в ходе Первой Мировой Войны Галиции, «Вождём всех времен и народов» – для Тувы или Шпицбергена, а в новейшее время – Павловым «в предвкушении ГКЧП» (убрал герб СССР с аверса!). Причём чех и среди них выделяется своей особенной редкостью, я бы даже сказал раритетностью, граничащей с уникальностью. Известно всего несколько десятков экземпляров этой монеты (в крайнем случае – до нескольких сотен) и, как правило, в ужасном с точки зрения коллекционера-нумизмата состоянии. Каждый новый экземпляр – это результат планомерных раскопок или благорасположения Его Величества Случая, который, как известно, хотя и ненадёжен, но щедр. И каждый новый экземпляр – это спасённый свидетель очень важного исторического периода. Очень трудно «добыть» чеха. Но, несмотря на это, коллекционеры стремятся к обладанию этой редкостью «всеми правдами» и даже иногда, к сожалению, «неправдами», не останавливаясь перед тем, что такое устремление грозит «в том и убыток себе понесть…». А именно «нестабильная государственность»– это и есть те точки бифуркации в Истории, в которых возникают и затем расходятся линии альтернативных реальностей! И где, как не здесь, искать материальные следы переслегинских «теней» близких параллельных миров?! Пара глотков моего уникального коктейля, укрепленная в меру сухой папиросиной и небольшой дозой чистого «Хэннеси Таймлесс», воскресили в моей памяти завет Пастернака ко всем, кто готов дойти До сущности протекших дней, До их причины, До оснований, до корней, До сердцевины. Вспомнилось, что С.Хоружий уже копал этот колодец во времени и нашел, что «вопрос «Или то лишь было возможным, что состоялось?» отсылает к обсуждению различий между поэзией и историей в «Поэтике» (8.4 – 9.2): по Аристотелю первая описывает то, что было возможным, вторая же – то, что состоялось». И я решил, что именно историей севского чеха я и займусь в самое ближайшее время, напишу о нем книгу с «великолепьем длиннот», и начну работу над ней сразу, как только станет ясно, что же произошло сегодня вечером в кабинете шефа и каких путей удалось мне избегнуть, а какие – предстоит-таки пройти после той бифуркационной точки, где мое сравнительно спокойное «работное» Прошлое перешло в неизвестное и тревожное «безработное» Будущее… Кто-то как будто услышал об этом моем решении – в коридоре хлопнули пробки и экран монитора немедленно погас. Я не стал разбираться с причинами – утро вечера мудренее! Последний глоток из столь кстати оказавшейся под рукой бутылки Hennessy Timeless и – благо для этого мне достаточно сделать только шаг – я прямо в одежде повалился на кровать. Коньячное тепло разлилось по усталому телу, и почти мгновенно я погрузился в Ночной морок. - Прекратите балаган! До сих пор я был хозяином в этом кабинете! И все, что здесь появлялось и делалось, было обусловлено только моей волей! Владимир Иванович спокойно переждал эту истерику и твердо сказал: Да кто с вами спорит? Хозяйничайте себе, пока не надоест! Вот только выдайте по два, как положено, оклада, да выходное пособие – и хозяйничайте дальше как хотите! Не будем мелочиться – по сто пятьдесят тысяч каждому и мы поплыли с «попутным ветром»… Шеф молчал. Некоторое время молчал, ожидая ответа, и Владимир Иванович. Потом он опустил руку в карман пиджака и достал из него пистолет. Красная точка лазерного прицела заплясала на груди Давида Васильевича, который, побледнев, начал оседать, валясь на бок… Я успел подскочить и подхватить обмякшее тело Давида Семеновича в тот момент, когда его правая рука, упавшая на стол, чуть не сбросила с него минору. Владимир Иванович помог мне усадить Давида Семеновича в кресло и, обмахивая его как опахалом «особой красной папкой», мы привели его в чувство. Я открыл правый ящик стола, достал оттуда пачку тоненьких сигарет, одну из них вложил между пальцами правой руки Давида Ильича и он тотчас поднес ее ко рту. Шеф уже достаточно пришел в себя и капризно произнес: - Вот, воспитал волчар на собственную шею… Впрочем, это я погорячился… Нельзя воспитать волчару из кошки, которая гуляет сама по себе. Ладно, берите по сто – нет больше в кассе! И требовательно попросил: - Дайте прикурить! Владимир Иванович взглянул на меня, ища поддержки для дальнейшего торга, но, вероятно, не обнаружил её. Поняв, что нужно быть реалистом и брать столько, сколько сможешь унести, не сломав при этом себе шею, он спокойно, даже как-то флегматично, сказал: - Ладно, будь по-вашему... Стольник, конечно, не деньги, но и полтора – не капитал. Да и вам на спички нужно что-нибудь оставить… Он снова опустил руку в карман, снова извлек из него пистолет, дождался, когда дрожь светового луча прицела успокоится на левом лацкане пиджака шефа, и нажал курок… Страхи материализуются! Однако, ЭТОТ – не У НАС, а в каком-то другом, параллельном мире… А здесь и сейчас огонек пламени вырвался из «мушки» пистолета-зажигалки, Давид Ильич прикурил и с наслаждением затянулся… Было очевидно, что его мультивидуум совершенно доволен состоянием этой своей веточки в нашем мире, мне же так и осталось неясным, что, будучи в нашем «лучшем из миров», предпочитает по утрам мой дракон – чай, кофе или коньяк?
|
|
Скачать
Очень просим Вас высказать свое мнение о данной работе, или, по меньшей мере, выставить свою оценку! Оценить: Закрыть |