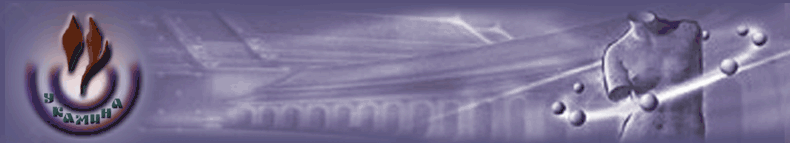|
Григорий Брейгин
ХРАНЯТ ТАК МНОГО ДОРОГОГО…
Хранят так много дорогого
Чуть пожелтевшие листы,
Как будто все вернулось снова,
Как будто вновь со мною ты.
«Старые письма», песня
из репертуара Клавдии Шульженко.
|
Несколько месяцев назад в израильском русскоязычном еженедельнике «Окна» был опубликован мой очерк, посвященный одной из темных страниц Второй мировой войны. Вскоре после выхода газеты у меня дома, в городе Акко, неожиданно раздался звонок из Германии. Звонил читатель, почти мой ровесник, бывший московский врач, а ныне эмигрант Игорь Рейф.
Как израильская газета оказалась во Франкфурте и почему его заинтересовала давно забытая страница войны, он не объяснил, а просто попросил адрес моей электронной почты и сказал, что все напишет.
И действительно через несколько дней я получил на свой компьютер большое сообщение от Игоря Рейфа: «Без преувеличения номер «Окон» с Вашим очерком, который случайно попал ко мне в руки, был для меня как глоток свежего воздуха…» Дальше Игорь рассказал немного о себе. Литературным трудом занялся лет десять назад, еще в Москве, когда по состоянию здоровья не мог больше работать врачом и ушел на пенсию. Оказалось, что круг его литературных интересов, пересекается с моим и во многом связан с Второй мировой войной. Еще он сообщил, что в нынешнем году у него вышла книга, которую он мне непременно вышлет.
И вот эта книга передо мной. Тоненькая, скорей даже не книга, а брошюра, она, тем не менее, вместила в себя трагическую жизнь целой семьи с труднопроизносимой фамилией Зегрже и, главным образом – жизнь младшего в этой семье, «незнаменитого выпускника МГУ», как назвал его автор, - по паспорту Георгия, а по жизни – Юры.
Завязка у истории, рассказанной Игорем Рейфом, весьма романтична, совсем, как в моем любимом романе «Два капитана». Помните, там главный герой Саня Григорьев нашел сумку утонувшего почтальона, полную писем. И именно письма стали крутой завязкой романа. Нечто похожее случилось и с Игорем. В Москве, в доме, где он жил, только этажом ниже, в десятиметровой комнатке коммунальной квартиры умерла одинокая бездетная старушка, «у которой на комоде стояла в рамочке фотокарточка юноши с круглым полудетским лицом и грустноватыми умными глазами». Игорь немного был знаком с ней, иногда заходил проведать, и именно ему – потому, что больше было некому, - из выморочного имущества досталось «наследство» - портфель, полный старых писем.
Поначалу у него не было никакой охоты возиться с этим семейным архивом. «Вчитываться в чужие истершиеся каракули, докапываться до смысла чужой, давно отшумевшей жизни. Тратить время и силы, когда и своих проблем невпроворот.»
И все-таки однажды Игорь открыл портфель и докопался до смысла.
Отец Юры, юноши с грустными глазами, был польский еврей Бернард Зегрже, который, как пишет Рейф, приехал вскоре после революции в Советскую Россию – строить здесь новую, светлую жизнь. Его жена, мать Юры, Мирра Марковна – еврейка из Тарту - приехала вслед за мужем. Бернард Зегрже с энтузиазмом строил социализм вплоть до 1 сентября 1937 года, пока его не забрали и осудили «без права переписки.» Теперь мы знаем, что за этой формулой – выстрел в затылок и безымянная могила. Уже после выхода книги Игорю Рейфу с помощью Сахаровского центра удалось получить выписку из «дела» Юриного отца. Из нее видно, с каким энтузиазмом и с какой скоростью вершилось сталинское судопроизводство. 1 сентября – арест, 20 сентября – суд, и 23 сентября – пуля. Через месяц арестовали и Мирру Марковну, дали смешной по тем временам срок – пять лет и отправили в республику зеков Коми, в поселок Вожаель – тот самый, что несколько десятилетий спустя изобразит в своей «Зоне» Сергей Довлатов, служивший там в конвойных войсках.
Юра остался с теткой, Софьей Марковной, Сонечкой или Кнопкой, как он называл ее в письмах. Разница между теткой и племянником была всего в десять лет.
В том же сентябре 37-го сына «врагов народа» или «ЧСИР», как на ублюдочном языке карательных органов именовались «Члены Семей Изменников Родины», исключили из МГУ, куда он только что поступил. Юра устроился разнорабочим на Трехгорку, чудом получил разрешение ректората на сдачу экзаменов экстерном, сдал первую сессию на «отлично» и – чудо номер два! -был восстановлен в университете. Как замечает И.Рейф, случай по тем временам уникальный.
Надо сказать, что все, о чем я сейчас пишу, я получил готовенькое, в нетолстой книжке с фотографией Юры на мягкой обложке. Моему коллеге пришлось собирать эту историю, как археологу, - из осколков, из черепков прошлого.
«Десяток разнокалиберных снимков, толстая пачка писем и открыток, нацарапанные наспех записки – вот и все, что бережно сохранили две женщины, одна из которых – в зоне, другая – по самому известному мне в мире адресу: Москва, М.Никитская ул. дом 16.», - написал в своей книжке Игорь Рейф. Он разбирал все это, заранее зная, что рано или поздно уткнется в казенный бланк похоронки…
Похоронка на Юрия Зегрже была датирована последним днем ноября 1942 года, а до этого был взвод разведки, а чуть раньше - пехотное училище, где для фронта ускоренно пекли лейтенантов, а еще раньше - биофак Московского университета. В Юриной зачетке против отметок «отлично» Игорь Рейф обнаружил не просто подписи знаменитых ученых, а историю поруганной и распятой биологической науки. Будущий академик Зенкевич, биохимик Северин, чьим именем впоследствии назовут научный институт, профессор Сабинин… «Через десять лет многие из них будут изгнаны из университета лысенковской сворой, а так и не раскаявшийся в своих «заблуждениях» профессор Сабинин покончит с собой» - пишет И.Рейф. Но к тому времени Юра Зегрже уже давно лежал безымянным в братской могиле где-то между Новгородом и Смоленском.
В этом месте своей книги Игорь Рейф делает мелким-мелким шрифтом примечание, которое я бы размножил самыми большими буквами, потому что и мой отец лежит в такой же безымянной могиле под Харьковом. Вот это примечание: «А ведь мне довелось повидать и другие воинские захоронения , как, например, итальянское кладбище на окраине Франкфурта. Итальянские солдаты, что сражались на стороне гитлеровских войск в 1944-45 годах, нашли там, как сказано на мраморной стеле, свое упокоение. 4788 отдельных холмиков, каждый под своей плитой, на которой высечены имя, даты жизни и воинское звание погибшего. А вся его, осененная пирамидальными тополями и кленами территория величиной со стадион – ведь вот не пожалели бережливые немцы дефицитной городской земли для иноплеменников. И на всем этом необъятном пространстве – ни одной безымянной могилы».
Что касается Юриной мамы, Мирры Марковны, то она, отбыв лагерный срок, так и осталась на севере, и до самого Дня победы Сонечка – «Кнопка» скрывала от нее правду о гибели сына. «Надо нам набраться мужества, сил и терпенья и ждать письма. Ни в коем случае нельзя допускать никаких дурных мыслей», - писала она сестре.
Умерла Мирра Марковна в 57-м от саркомы бедра, прямо на операционном столе. Не выдержало сердце.
А теперь о том, как и почему эта история пересеклась с моей, и что я имел в виду под чудесными совпадениями.
Где-то в начале 60-х годов я работал в казахстанской молодежной газете «Ленинская смена». Мой приятель, занимавший некую должность в Государственном архиве Казахстана, зная о моем интересе ко всему, что связано с малоизвестными страницами Отечественной войны, как-то рассказал мне, что у них в не разобранных фондах лежит, как он выразился, кубометр военных писем. Я загорелся их посмотреть. Оказалось, что писем даже не кубометр, а гораздо больше. И лежат они, связанные в пачки, уже лет десять. В самом начале 50-х годов у кого-то родилась идея собрать и издать книгу писем казахстанцев, посланных с фронта. Собрали «на местах» массу фронтовых треугольничков и открыток, свезли в Алма-Ату, а книгу издавать передумали. А все письма сдали в архив, где я с ними и встретился. Я перебирал толстые связки, совершенно не представляя, как к ним подступиться. И вдруг… Да-да, именно вдруг, как пишут плохие романисты, я зацепился взглядом за одну открытку, лежавшую сверху. Вернее, прочитал первую строчку: «Здравствуйте, Соколята и Синичка!» Именно так, с большой буквы, как пишутся имена.
Я вытащил из штабеля нетолстую связку из, примерно, полутора десятков писем и открыток и прочитал несколько писем прямо здесь же, в хранилище. Поверьте, я до этого никогда не читал ничего подобного. Это были удивительные письма удивительного человека. Приятель разрешил мне взять их под честное слово на несколько дней, и дома, разложив письма по хронологии, я с головой погрузился в историю войны и любви. Первое письмо, еще довоенное было датировано 1939 годом, а последнее – февралем 1944-го.
Военный летчик Александр Батурин писал в Казахстан, на маленькую станцию Мартук. Там жила его семья - жена Нина и дети, два сына и дочка. Мальчишек звали Женя и Славик, а девочку - Светлана. Но отец в письмах все время называл их Соколята и Синичка. Только так. И было удивительно, что суровый, судя по письмам, мужик, летчик истребительной авиации, израненый и хлебнувший поверх головы военного лиха, придумал для своих детей такие полные нежности прозвища.
Как я уже говорил, письма вместили пять лет его жизни. Были письма еще довоенные из авиационной части, где Батурин служил, была открытка, отправленная в самый первый день войны, где он как бы прощался с женой и детьми и напутствовал их, были письма с рассказами о буднях войны, о боевых друзьях, о смешном и о трагическом. Что удивительно, он не употреблял слова «бой», «война», а писал «работа». «А вчера,Нинок, мы хорошо поработали, вогнали в землю пару фрицев…»
У него было серьезное ранение: немецкий осколок засел в переносице, почти в углу глаза. Врачи боялись удалять его в полевых условиях, а в тыл он не хотел. Летал в темных очках, и в письмах шутил: «А я, имея полтора ока, сбил уже полтора десятка этих гадов. Только волос на затылке стал седой, как у волка».
Почти в каждом письме Батурин рассказывал о своем ведомом – Михаиле Мачабели, передавал от него приветы. А потом было самое горькое письмо. «Это, Нинок, случилось позавчера, а сегодня я только пришел в себя и пишу. Мы моей эскадрильей работали против 16 «фоккеров. Мишка закрыл меня своей машиной и сгорел. ..»
Последнее письмо было датировано 44-м годом, и я больше ничего не знал об их авторе кроме того, что на тот момент он сбил уже два десятка немецких самолетов и вполне тянул на звание Героя. Я даже не знал, жив ли Батурин.
Кляну себя сейчас, что не сберег ни копий писем, ни собственных публикаций и сейчас все цитирую по памяти. Тогда, в начале 60-х, я на основе писем опубликовал в «Ленинской смене» очерк о Батурине. Совершенно для меня неожиданно очерк перепечатал всесоюзный журнал «Смена», и началась цепь удивительных событий.
Уже в следующем номере «Смены» появилось продолжение истории Батурина, рассказанное ленинградским журналистом. То, что о моем герое написал именно ленинградский коллега, стало вполне понятно: всё, о чем Батурин рассказывал в письмах, не указывая по законам военной цензуры место дислокации, происходило в небе блокадного Ленинграда, над Ладогой, над «Дорогой жизни». Оказывается, о батуринской эскадрилье много писали во фронтовой и не только фронтовой печати, рассказывали по ленинградскому радио. Александр Герасимович был самым старшим в эскадрилье не только по званию, но и по возрасту, потому что стал военным летчиком задолго до войны. Если кто читал роман Николая Чуковского «Балтийское небо», то должен помнить главного героя – майора Лунина. Так вот, его прототипом послужил для писателя именно Батурин, которого Чуковский знал лично.
Совсем молодым летчиком был ведомый Батурина - Миша Мачабели, паренек из грузинского города Ткварчели. Кстати, его фамилию из-за неразборчивого батуринского почерка я прочитал в письмах неправильно – «Могабели», и ленинградский коллега меня поправил. Но ошибка в фамилии – это ерунда. Гораздо важнее то, что Миша Мачабели не погиб в том бою, когда бросил свою машину наперерез пулеметной трассе «Фоккера» и тем самым спас командира. Летчик успел воспользоваться парашютом, приземлился с перебитыми ногами на немецкой территории, попал в плен, вылечился, бежал из лагеря и потом снова воевал, но уже на другом фронте. Встретились они с Батуриным только на 20-летие Победы, в Ленинграде, а нашли друг друга благодаря моему очерку в «Смене». А я увиделся с Александром Герасимовичем еще позже, когда работал в «Комсомольской правде», а он к тому времени покинул Казахстан и жил в Татарии, в городе Альметьевске. Он уже по возрасту не летал, а работал в каком-то нефтяном тресте. Батурин показался мне сугубо земным человеком, без всякого налета романтики. И ордена свои вместе с Золотой Звездой он надевал только по большим праздникам. Но я -то знал, что лишь неисправимый романтик может до седых волос называть своих давно повзрослевших детей Соколята и Синичка.
Я думаю о том, как много пересечений в судьбах людей того времени…
В августе 1942-го Юра Зегрже в солдатской теплушке ехал на фронт. По этому поводу в книге Рейфа есть примечание: «А ведь где-то и мы с ним, что не исключено, могли в тот момент пересечься. Потому что в эти же самые дни я с сестрой и родителями возвращался из Саратова в полупустую обезлюдевшую Москву. И тоже ехали в красноармейской теплушке, и я до сих пор помню вкус того кусочка колотого сахара, которым угостил меня один из бойцов. Бог ты мой, сколько сладостей я с той поры перепробовал, а вот тот, протянутый мне из теплушечной полутьмы твердый, как кристалл, наполняющий обильною слюною рот сахарный сколок, не забуду, уж видно, никогда.»
Писем Юрия, посланных с фронта, сохранилось немного. Последнее датировано ноябрем 1942 года, менее чем за двадцать дней до гибели. Послано оно маме, Мирре Марковне, в лагерь, где она упрямо пыталась выжить.
«Дорогая мамуська! Прости, что долго тебе не писал, не было времени. С тех пор, как я тебе последний раз писал и до недавнего времени в моей жизни никаких особо выдающихся событий не было, но в последних числах октября таковые произошли. Я с несколькими бойцами получил задание взять пленного «языка» из-за линии вражеских укреплений. Задание было выполнено ( подробности смотри в прилагаемой газетной вырезке) , и за эту операцию меня наградили медалью «За отвагу». Вручал мне ее сам командир дивизии, а 7 ноября я был приглашен на праздничный обед к командиру полка. Насчет моего ранения не беспокойся, рана пустяковая, и я уже хожу. С нетерпением жду своего окончательного выздоровления, чтобы опять драться с немецко-фашистской сволочью. В общем, мамуська, стараюсь тут на фронте действовать так же, как учился в университете.
Желаю тебе сил и здоровья. Крепко целую. Твой Юра».
30 ноября 1942 года, во время очередного рейда к немецким окопам, Георгий Бернардович Зегрже был убит.
А теперь я хочу вернуться к книге Игоря Рейфа. Этой скромной по размерам книжицей он по сути поставил памятник Юре Зегрже, вырвал его имя из забвения и вернул истории. И здесь я позволю себе длинную цитату. Это тоже письмо – из деканата биологического факультета МГУ, работники которого помогли выпустить книгу в издательстве университета.
«Глубокоуважаемый Игорь Евгеньевич! Спасибо Вам за письмо о Георгии Бернардовиче Зегрже. Его знают и помнят на биофаке, здесь остались его сокурсники и очевидцы.
Мы прочли на специальном собрании Вашу рукопись. Впечатление огромное, спасибо Вам. Многие плакали, а после чтения говорили и молчали, молчали и говорили… После чтения Вашей рукописи у фотографии Зегрже в мемориальном зале побывало много людей. Говорят, что лет 30 назад там часто стояли и молчали две пожилые женщины, не сотрудницы и не выпускницы биофака…»
Теперь можно сказать со всей определенностью, что две пожилые женщины – это Мирра Марковна и Сонечка…
Свою повесть о незнаменитом выпускнике МГУ Игорь Рейф закончил всего одной строчкой: «Ну, слава Богу. Значит, кому-то это все-таки еще нужно».
Я думаю, что это нужно не «еще», а будет нужно всегда, раз уж Бог наделил нас душой и памятью. Но вот только что останется после нас в век компьютеров, Интернета и электронной почты? Что останется, если люди постепенно перестают писать друг другу письма – не электронные послания, а листки бумаги с неровным почерком, которые могут со временем состариться и пожелтеть, но при этом многие десятилетия хранят для нас так много дорогого…
|