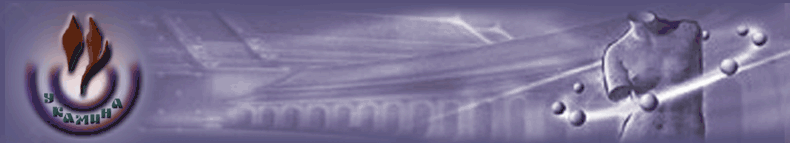В милицейском сленге есть словечки "глухарь" или "висяк". Они означают нераскрытое, глухое дело, которое вечным укором висит на каком-нибудь убойном отделе. У меня тоже есть такой "глухарь".
Я тогда работал собственным корреспондентом "Комсомольской правды" в Волгограде. Шел апрель 1969 года, приближался май, День Победы, который на земле Сталинграда всегда ощущается и празднуется по-особому.
Хорошо помню, что эта история началась восьмого апреля. Именно в этот день - я потом проверял - на перроне станции Волгоград остановился, как всегда, скорый поезд Севастополь-Свердловск. К привокзальному киоску подбежал высокий мужчина в белом плаще и через головы стоявших в очереди протянул продавщице бумажный сверток.
"Здесь документы и адрес, - сказал мужчина. - Отдайте в газету или на телевидение. Может, найдут..."
О себе мужчина успел только сказать, что он строитель из Севастополя, в Волгограде проездом и что документы нашли в земле, в пустой бутылке из-под шампанского.
Продавщица сверток положила под прилавок и вспомнила о нем уже вечером, когда закончила торговать. Развернула и увидела несколько листков пожелтевшей бумаги, исписанной неровным почерком. Когда разобрала написанное, поняла, что это предсмертное письмо защитника Севастополя. На первом листке стоял адрес: "Сталинград, Дар-гора, улица Челябинская, 88-а, Супруновой Марии Егоровне от сына и брата Вити."
По адресу женщина не пошла, а на следующий день отнесла письмо в редакцию молодежной газеты. Благо, она располагалась прямо на привокзальной площади. Там письмо прочитали и ахнули: не просто записка, какие находили в гильзах от патронов, в портсигарах и в пробитых пулей солдатских книжках, а развернутое повествование о последних днях и часах солдата. Причем, написанное в короткие паузы между немецкими атаками, когда автор, отложив винтовку, брался за карандаш, чтобы снова прерваться, когда накатывала новая волна атакующих. Да и обрывалось письмо на полуслове, как на последнем вдохе: "Все горит и клокочет.."
Разобраться с письмом поручили молодому журналисту, новичку в редакции. Того адреса, что был в письме, уже не существовало: Сталинград разрушен был полностью, так что некоторые улицы после войны даже нарезали по-новому. Однако в адресном столе спокойно дали новый адрес Марии Егоровны Супруновой.
И вот добровольный почтальон отправился, чтобы через четверть века вручить матери такое запоздалое письмо.
На звонок открыл мужчина лет сорока - сорока пяти.
"Мария Егоровна здесь живет?"
"Здесь. Она в магазин пошла. А зачем она тебе?"
"Понимаете, я весточку принес от ее погибшего сына. От Вити..."
"Почему - погибшего? Витя - это я".
Домыслите сами немую сцену...
Молодой журналист понял, что имеет дело не просто с сенсацией, а с сенсацией в квадрате, в кубе, бог знает в какой степени. Ну, как же: через двадцать пять лет предсмертное солдатское письмо нашло своего живого автора. Мужики сели на кухне, пошли расспросы и рассказы. Витя, то-есть, теперь уже Виктор Константинович, рассказал, что служил на флоте, война застала его в Севастополе. Экипажи многих кораблей воевали в пехоте. Вот и он был в числе защитников Севастополя с суши, их дзот оказался на направлении главного танкового удара. Десять моряков приняли неравный бой, погибли, но не пропустили танки. Сам Супрунов - единственный из десяти, оставшийся в живых.
История эта показалась ребятам из молодежки настолько интересной, что они решили сделать из нее документальную повесть и печатать ее с продолжением из номера в номер. Их даже не смутило, что ничем, кроме рассказов самого Вити, они не располагали. Причем, всю подготовку предполагалось вести в строжайшей тайне, чтобы другим газетам вставить "фитиль".
Но когда тайну знают больше двух человек, она перестает быть тайной. Информация просочилась, я тоже узнал про письмо из сорок первого года и, поскольку тема войны прошла через всю мою профессиональную жизнь, не мог остаться равнодушным. Я приехал в редакцию молодежки и предложил им совместную акцию с "Комсомольской правдой". Мне удалось убедить коллег, что материала на повесть пока просто нет, а сам текст письма настолько драматичен, что надо просто опубликовать его в один и тот же день в наших двух газетах, снабдив небольшим комментарием. Только перед этим нужно обязательно проверить все, что поддается проверке. Договорились, что они отдадут текст на криминалистическую экспертизу в городское управление внутренних дел.
А тем временем я познакомился с Виктором Константиновичем, мы стали с ним встречаться, подолгу беседовали. Он вспоминал детали, подробности. Рассказывал, что рядом с дотом похоронил двух своих боевых друзей - Павла Вареника и Павла Брызгалина. Про одного из них было и в письме: "Друг Павка умирал и пророчил мне бессмертие".
Я спросил, откуда взялась на поле боя бутылка из-под шампанского. Оказывается, в осажденном Севастополе не было пресной воды. Вместо нее бойцам выдавали сухое вино и шампанское. Даже в детских садах, которые были укрыты в глубоких штольнях, пробитых в скале, ребятишкам варили кашу на виноматериале для шампанского.
Рассказывал Виктор Константинович и о том, как после падения Севастополя попал в немецкий плен. Случилось это на мысе Херсонес, крайней оконечности Крымского полуострова, где в гражданскую войну была сброшена в море армия барона Врангеля. Через два десятилетия история повторилась. Наши моряки и солдаты, израненные, измученные, кинутые своим командованием, которое ушло на подводных лодках, были так же сброшены в море. Супрунов рассказывал, как они стояли внизу под обрывом у кромки прибоя, а гитлеровские солдаты сверху мочились им на голову...
Потом был лагерь для военнопленных где-то под Смоленском, побег, партизанский отряд в Белоруссии, где боец Супрунов был награжден медалью "За отвагу", и, наконец, возвращение на флот после освобождения Севастополя. Словом, хорошая боевая биография.
Тем временем наступил май, надвигался День Победы. Для Севастополя этот день был к тому же и юбилейный: город освободили 9 мая 1944 года, стало быть, в 1969-м исполнялось 25 лет этой дате. Деталь для дальнейшего повествования немаловажная.
И вот в самый канун Дня победы сижу я вечером дома и смотрю местное телевидение. И вижу знакомого комментатора, который ведет передачи на военные темы, а рядом с ним - нашего Витю. Камера крупно наезжает на листки его письма, он рассказывает, как писал его, как сражался их дзот номер 11, как погибли все его друзья...
А буквально на следующий вечер по системе "Интервидения", то есть на весь СССР и страны бывшего социалистического лагеря, в программе "Перекличка городов-героев" транслируется прямая передача с Мамаева кургана. У подножья монумента "Мать-Родина" - сам Витя, Мария Егоровна, Витина жена и дети. Снова крупным планом письмо, снова рассказ о дзоте номер 11, но теперь уже Виктор Константинович обращается к севастопольцам как героический защитник героического города. И плачет мама, и плачет жена, и у меня - комок в горле...
Но тут же я начинаю понимать, что "фитиль" вставили именно мне и моей газете. Прекрасную тему увели, как говаривал великий комбинатор, прямо из стойла. Поэтому сразу после праздника я, злоупотребив служебным положением, отбираю у местных комсомолят оригинал письма и начинаю сам нормальное журналистское расследование.
И вот на моем столе лежат семь пожелтевших от времени листков. Видно, что они вырваны из блокнота-календаря типа ежедневника: на всех страничках напечатаны названия дней недели и числа. Все надписи на немецком языке. Само письмо написано простым карандашом. Видно, как грифель тупился, его затачивали и снова писали. Видимо, от атаки до атаки, но все в один день - 19 ноября 1941 года, в день первого штурма Севастополя. Эта дата стоит в самом начале текста.
Сам текст невероятно эмоциональный, невероятно пронзительный. Кое-где листки разорваны, и отдельные слова не читаются. К сожалению, у меня не сохранилась копия этого письма, но я попытаюсь воспроизвести его по памяти.
"Здравствуй, дорогая мама, и мои сестры Маня, (вырвано) и Таечка. Пишу вам в перерывах между боем. Прости, мама, что я так и не успел покатать тебя на машине. Так хочется жить, но и так же хочется геройски умереть, как умирают моряки-черноморцы. Погибли Павка Вареник и Павка Брызгалин. Из трупов фашистов сделали баррикаду, уложили их сотни.
Нас обстреливают из танков, наш дзот разбит, погибли все. Друг Павка умирал и пророчил мне бессмертие, но...пришел и мой черед. Потомки, вспоминайте о нас, черноморцах. Не видели жизни, не знали чистой любви...(вырвано) Нет воды, нет сухаря, а трофеев из оружия хватит на целую роту фашистов вонючих. Им никогда не победить нашего русского духа геройства, я мщу и буду мстить за наш Севастополь, за родной Сталинград. Я знаю: наш флаг будет развеваться над всей Европой.
Итак, прощайте. Закладываю в бутылку свое последнее письмо. Всё горит и клокочет..."
Вот такой документ, вот такое эхо прошедшей войны...
Первое, что я сделал, - отнес письмо криминалистам. Два простых вопроса: написано ли это Супруновым и когда написано. Эксперты взяли в отделе кадров химкомбината, где Виктор работал аппаратчиком, его личное дело, сравнили почерки и твердо сказали: писал Супрунов. На второй вопрос ответ был такой: бумага немецкая, образцов для сравнения нет, способ хранения предположителен, поэтому время написания текста точно установить невозможно.
На мой запрос в Центральный архив Военно-морского флота, который находился в Гатчине под Ленинградом, мне прислали копию послужного списка краснофлотца Супрунова. Практически все совпадало с его рассказом: и оборона Севастополя, и плен, и партизанский отряд, и последующая служба в Севастополе вплоть до 1947 года. Не совпадала лишь одна маленькая деталь: в послужном списке значилось, что Каплунов служил не в отдельном батальоне дотов и дзотов, а в 8-м заградительном отряде. Это было чисто сталинское изобретение: заградотряды располагались за спиной наших солдат и должны были стрелять в них в случае отступления. Впрочем, на войне всякое бывает, и бойцов заградотряда вполне могли перебросить на подмогу гарнизонам дотов и дзотов.
А тем временем наши встречи с Супруновым продолжались. Мы подолгу беседовали, и чем больше всплывало различных деталей, тем явственней было мое ощущение, что в этой истории что-то не связывается. Именно ощущение, не более того. Но я не мог от него отмахнуться.
Например, насчет немецкого происхождения бумаги Виктор Константинович объяснил вполне правдоподобно: в кармане убитого немецкого офицера нашел записную книжку, вырвал исписанные страницы, а на чистых писал. Но когда я спросил, где он взял солдатскую шинель, в которую, по его словам, завернул бутылку с письмом... Нет, не так. Я спросил его с хитрым заходом: не жалко ли было переодеваться в пехотное обмундирование? Он ответил, что морскую форму и не снимал и даже в плен попал в форменке и бушлате. "Тогда откуда взялась пехотная шинель?"
Здесь он дернулся, но быстро нашелся и ответил, что снял шинель с нашего убитого бойца. Это была первая очевидная неправда: девятнадцатое ноября, холодная осень. Снимать шинель с окоченелого трупа... Выходит, не было шинели?
Но, боже мой, это такая мелочь! Ведь было же все остальное - Севастополь, осада, "все горит и клокочет..."
Вот это я и должен был установить совершенно точно: было или не было.
Я уже говорил, что письмо было исполнено на страничках из немецкого блокнота- календаря. Там были дни недели и числа, но нигде не указан год. По таблице "вечного календаря" я проверил десять лет - с тридцать пятого по сорок пятый. Совпали два года: 39-й и 43-й. Если тридцать девятый - то все в порядке: немецкий офицер вполне мог носить в кармане записную книжку, выпущенную в тридцать девятом году. Если же сорок третий - значит, мы имеем грубую подделку, ибо и ежу понятно, что нельзя написать что-либо осенью сорок первого года на бумаге, которая еще только должна появиться на свет в сорок третьем. То есть, опять нет ответа на главный вопрос.
Я иду в городскую библиотеку и набираю всё, что есть по истории обороны Севастополя. Получается внушительная стопа литературы, в которую я и погружаюсь. Выясняется много интересного. Оказывается, одиннадцатый дзот, который значится в письме Супрунова, - не рядовая огневая точка, а место историческое, почти такое же, как Дом Павлова в Сталинграде. Он входил в систему сухопутных укреплений Севастополя. Всего дзотов было пятнадцать, они охватывали главную базу Черноморского флота с суши, но историческим стал лишь один из них - одиннадцатый.
Дело в том, что во время первого ожесточенного штурма Севастополя осенью 1941 года немцы направили ударную танковую группу не туда, где её ждали, не по шоссе Симферополь-Севастополь, которое и перекрывали дзоты, а в обход, через ущелье, которое выходило прямо на базу Черноморского флота. На пути танков и оказался одиннадцатый дзот. Он плотно запирал узкое ущелье, и чтобы пройти дальше, надо было стереть дзот с лица земли вместе с его защитниками.
Защитников было десять. Десяток морячков, совсем молодых, необстрелянных ребят. Они и приняли бой. Все они известны поименно. Девять погибли, один остался в живых. Но во всех источниках фамилия этого выжившего не Супрунов, а Доля. Григорий Григорьевич Доля. О нем, кстати, упоминал в своих рассказах и Виктор Константинович. Опять все непонятно.
Снова обращаюсь к листкам письма. На некоторых есть надписи на немецком. Нахожу в Комитете госбезопасности Волгограда специалиста, который во время войны работал в стратегической разведке. Он переводит надписи и комментирует их. Одна из надписей касается какого-то немецкого праздника и гласит, что в связи с войной праздник переносится на ближайшее воскресенье. Значит, сорок третий год? Значит - туфта?
"Я бы не утверждал это так категорично,- сказал специалист. - Немцы начали выпекать хлеб для войны еще с тридцать шестого года. Что же говорить про бумагу..."
И опять я в который раз вчитываюсь в выученный наизусть текст письма. И вдруг будто что-то щелкнуло, и вспыхнул во тьме яркий свет. "Я МЩУ И БУДУ МСТИТЬ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ, ЗА РОДНОЙ СТАЛИНГРАД..." Первые бомбы упали на Сталинград в августе 1942 года, письмо датировано 19 ноября 1941 года, когда Сталинград еще был глубоким тылом и никто даже помыслить не мог, что армия фельдмаршала Паулюса дойдет до Волги. Мстить в ноябре за Сталинград? Написать такое мог только человек из будущего, человек послевоенный.
Вот такой получался расклад...
Ситуация осложнялась еще и тем, что я не мог поделиться с Супруновым своими сомнениями, не мог оскорбить его подозрением. Оставался единственный выход - лететь в Севастополь и все проверять на месте.
Я позвонил в Москву, объяснил редакционному начальству ситуацию и получил добро: мы летим в Крым вместе с Супруновым и там я довожу расследование до конца.
Виктору Константиновичу я объяснил, что хочу вместе с ним побывать на месте боев, увидеть все своими глазами. Ему дали на работе недельный отпуск, и в конце мая мы приземлились в Симферопольском аэропорту.
В степи под Севастополем цвели алые маки. Их было так много, что склоны холмов утопали в кумаче. А там, где ослепительно белели под солнцем выходы инкерманского известняка, казалось, будто алая кровь проступила на свежих бинтах...
Именно так накладывалась вся эта картина на мое тогдашнее настроение.
Мы ехали рейсовым автобусом по Симферопольскому шоссе. В июле сорок второго, когда город был взят немцами, по этой дороге гнали тысячи наших пленных. Раненых и отставших пристреливали. Супрунов тогда был среди тех, кто дошел.
Мы ехали, и он показывал мне памятные места. Показал и дзоты, все еще как бы сторожившие шоссе.
В Севастополе я оставил его в гостинице и встретился с милицейским генералом, начальником УВД. Он проявил живейший интерес и к моей миссии, и к истории с письмом из сорок первого года.
Да, чуть не забыл: в Волгограде, когда я еще не был уверен, что смогу повезти с собой Супрунова, я попросил его нарисовать план местности - где стоял дзот, где могилка Павла Вареника, где была зарыта бутылка с письмом. Виктор Константинович взял чистый лист бумаги и очень грамотно начертил схему: излучина реки Бельбек, группа отдельно стоящих деревьев, привязка к шоссе... Забегая вперед, скажу: когда мы приехали на это место, я поразился точности схемы. Если бы я собственными глазами не видел, как Супрунов рисовал по памяти, то мог бы подумать, что он сделал кальку с военной карты.
Такую карту и достал из сейфа милицейский генерал. Он разложил ее на столе, положил рядом супруновскую схему, нашел изображенное место и удивленно сказал: "Так это ж не одиннадцатый! Одиннадцатый совсем в другой стороне," - и показал на верхний угол карты, где не было дорог, а лишь узкое ущелье петляло к берегу моря среди сопок.
Ну вот и приехали...
"Что же это получается, многоуважаемый корреспондент?" - спросил я сам себя. И сам себе ответил: - А то и получается, что вся эта история с письмом в бутылке, с героем-севастопольцем и его участием в обороне исторического дзота смахивает на элементарную липу.
Мы договорились с генералом, что на следующий день с утра он даст мне машину, и мы с Супруновым поедем, так сказать, по местам боев. Пускай покажет, где лежал, откуда стрелял, где товарищей схоронил, в каком месте зарыл бутылку с письмом. А в подмогу мне генерал определил Антонину Алексеевну, совершенно уникальную женщину. В севастопольскую страду она была членом комитета обороны города, а после войны стала собирать документы и живые свидетельства участников обороны. Кроме того со своими добровольными помощниками она восстановила имена более чем пяти тысяч солдат, пропавших без вести. Находили безымянные могилы, собирали солдатские смертные медальоны и писали по сохранившимся в медальонах адресам. Причем эту великую работу делали совершенно бескорыстно.
У Антонины Алексеевны оказалась необыкновенная память на события, имена и даты. Она помнила наименования войсковых частей и фамилии их командиров. Могла сказать, какую позицию занимало то или иное подразделение. У нее были составлены списки вооружения по каждому дзоту, но и не заглядывая в эти списки, она могла перечислить все, чуть ли не до последней винтовки.
И вот с этой женщиной мы на следующее утро отправились туда, куда повез нас Супрунов. Мы ехали по тому же симферопольскому шоссе мимо цветущих маковых полей, в окружении буйной крымской весны, которой не было дела до наших разборок. Мы подъехали к дзоту и остановились чуть поодаль: дзот стоял на склоне холма, и машине до него было не подняться. А когда подошли поближе, стала видна табличка: "Дзот номер 15, входивший в систему обороны Севастополя 1941-1942 г.г."
Виктор Константинович как-то сразу засуетился, стал говорить, что прошло столько времени, он мог перепутать, теперь он и сам видит, что это не то место...
Мы поехали к следующему дзоту, и он тоже оказался не тем, поехали к третьему, потом снова вернулись ко второму...
"Всё! - сказал Супрунов. - Это здесь. Точно помню: бой был здесь. Отсюда танки шли, тут мы баррикаду сделали, а где-то там я зарыл бутылку."
"Хорошо, - сказала Антонина Алексеевна. - Попытайтесь найти могилу Павла Вареника. Судя по всему, родные не получили на него похоронку, он до сих пор числится без вести пропавшим. Найдем могилку, найдем солдатский медальон - вернем память о человеке".
Виктор спустился вниз, где среди густого кустарника журчала речушка. Его долго не было, а потом он вышел к нам - в расстегнутой мокрой сорочке, с мокрым лицом. Он сказал: "Ничего не могу найти... Все так переменилось... Но я точно помню, это было здесь."
- Виктор Константинович, - сказал я. - Мне не доставляет удовольствия задавать вам неприятные вопросы, но это моя работа. И я не могу не спросить, почему, находясь, как вы говорите, в этом дзоте, вы в своем письме указали дзот номер одиннадцать.
Супрунов помолчал, подумал и ответил: "Мы здесь слышали, как там идет бой, переживали за ребят, вот я машинально и написал ..."
После этого я уже понимал, что тяну пустышку, мне расхотелось с ним говорить, но тут снова вмешалась Антонина Алексеевна. Она спросила, не припомнит ли Виктор Константинович, какое вооружение было в этом дзоте. И тот, как бы припоминая, сказал, что были винтовки, гранаты, два автомата ППШ, противотанковое ружье.
И тогда Антонина Алексеевна грустно сказала: "Я не могу вам верить. В этом и только в этом дзоте, а вы видите - он стоит прямо у дороги, только в нем было не противотанковое ружье, а противотанковое орудие. Пушка сорокопятка. Разве можно в бою забыть про пушку?"
Забыть про это было нельзя. Про это можно было только не знать...
С этой минуты наша беседа потеряла смысл. Супрунов сказал, что простому человеку правды не добиться, и почему-то обозвал меня хрущевским выкормышем.
Мы вернулись в гостиницу. Мне не хотелось никого видеть, мне не хотелось никого слышать, тем более - разговаривать. Мы лежали каждый на своей койке. Время тянулось невыносимо медленно.
Вечером неожиданно зазвонил телефон. "Это из штаба Черноморского флота, - сказали в трубке. - Мы знаем, зачем вы приехали и у нас кое-что есть для вас. Возле гостиницы ждет машина, выходите."
Меня привезли в полутемное здание штаба, где светилось всего несколько окон. Водитель, молоденький морячок, провел меня мимо часового куда-то наверх, где в кабинете были двое - капитан первого ранга и пожилой грузный человек в морской форме
Знакомьтесь, - сказал каперанг. - Это Григорий Григорьевич Доля".
Я всегда был уверен, что только отчаянные сочинители придумывают такого рода сюжеты, в которых под занавес появляется таинственный незнакомец, связывает в романе концы с концами - и все довольны: и читатели, и автор. В особенности автор, который, наконец, может поставить точку.
Вот так и я был несказанно рад этому подарку судьбы. Григорий Доля, единственный оставшийся в живых защитник дзота № 11, о котором я столько читал и слышал ( в том числе, кстати, и от Супрунова, уверявшего, что хорошо его помнит) - этот единственный и подлинный свидетель теперь сидел передо мной.
Оказывается, Григорий Григорьевич потихоньку служил себе на каком-то флотском складе, а после моего приезда в Севастополь, когда круги от моего расследования дошли до военно-морского начальства, оно устроило нам встречу.
Не буду пересказывать нашу сперва сумбурную, а потом весьма обстоятельную беседу. Скажу только, что она окончательно поставила крест на истории Супрунова. Я все же на всякий случай спросил Долю, не мог ли он что-нибудь забыть. Все-таки война, бои, неразбериха...
"Забыть я ничего не мог, - сказал Григорий Григорьевич. - Мы в том доте вдесятером сидели несколько месяцев и все друг про друга знали, даже у чьей жены на каком месте родинка. А вы говорите - забыл. Не было с нами никакого Супрунова!"
И тогда мы решились напоследок на болезненный, но необходимый шаг - очную ставку, если выражаться следственно-процессуальным языком. И она состоялась на следующий день.
Опускаю подробности, они достаточно тягостны. Скажу только, что в сугубо мужской компании старый мичман отпустил тормоза и на сочном флотском языке высказал Супрунову все, что о нем думал.
Вечером того же дня я отправил Супрунова домой, сам прилетел в Москву и рассказал в редакции свою грустную повесть. "Комсомолка" попросила специалистов с площади Дзержинского провести экспертизу супруновского письма, и те сделали это быстро и точно. Я съездил за результатом, который гласил, что бумага действительно старая, довоенная, а текст изготовлен всего несколько месяцев назад и искусственно состарен. Когда я поинтересовался, как это можно сделать, эксперт популярно объяснил мне, что достаточно окунуть бумагу с текстом в мочу, положить в баночку и закопать на недельку в землю.
Я все-таки написал про эту историю - без подробностей расследования, о которых пишу сейчас, - и мой очерк был напечатан. Но когда я его писал, то рука не поднялась назвать подлинную фамилию Супрунова: я все время видел перед собой его мать, жену и детей, которые ни в чем не виноваты...
Я и сегодня рассказал о нем под вымышленной фамилией, а тогда даже не назвал Волгоград, где все это началось, а поставил под материалом адрес "Поволжье - Севастополь".
Вот только до сих пор не дает мне покоя явное несоответствие весьма недалекого в общении Супрунова и блестяще разработанной "операции" с героическим дзотом, письмом, "найденным" в бутылке и прочими деталями этой истории. И вся она для меня и сегодня - большой свод вопросов.
Зачем Супрунову понадобилась эта мистификация? Его реальной биографии вполне достало бы на уважение общества. Конечно, его не показали бы по "Интервидению" и, возможно, не сажали бы в президиумы пионерских слетов, как было до публикации в "Комсомолке". Но неужто ради этого стоило ставить на карту доброе имя ?
Почему он после войны, служа в Севастополе до 1947 года, не попытался откопать свое письмо? Не потому ли, что никогда его не закапывал?
Кто был тот человек, который на вокзале передал в киоск сверток с бумагами? Это был точно не Супрунов: тот мужчина был настолько высоким, что легко протянул руку над головами толпившихся у киоска людей, а Супрунов роста ниже среднего.
И вообще - кто стоял за всеми этими хитросплетениями? Не знаю... И уже, скорее всего, не узнаю никогда.